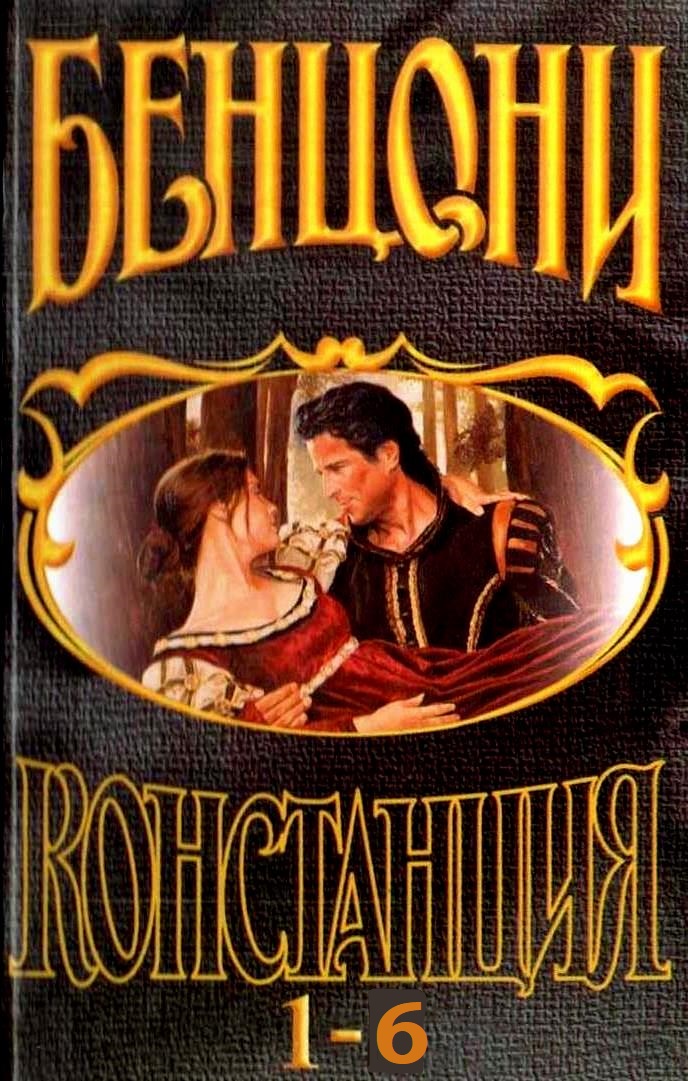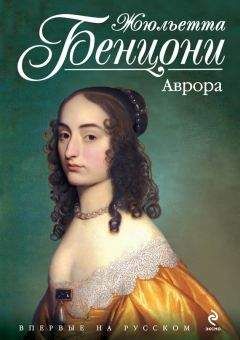силами и даже возобновила свои прогулки в саду, опираясь теперь на Амалию и Ульрику. На счастье, вторая половина октября выдалась необычно мягкой. Днем солнце золотило березовые листочки, медленно облетавшие с ветвей и устилавшие землю мягким шуршащим ковром. Ночи были уже холодные и напоминали о приходе осени, отчего в наглухо закупоренных домах спалось только слаще. Избавившись от своего кошмара — по крайней мере на какое-то время, — Аврора благодаря целительному сну постепенно возвращалась к жизни.
А в ночь с 26 на 27 октября она проснулась от чувства, что простыня под ней намокла, хотела было встать, но рухнула на подушки от острой боли. Услышав ее стоны, спавшая с ней рядом Ульрика вскочила и объявила, осветив ее светом ночного канделябра:
— У вас отошли воды. Значит, сейчас начнутся родовые схватки. Я посылаю за доктором!
Она исчезла. На ее место заступила Амалия в халате и в ночном чепце. Снаружи скрипнула калитка — это лакей бросился за доктором Трумпом. Того не пришлось долго ждать. Осмотрев пациентку, он заявил:
— Вы скоро родите. Можно готовиться. Но ребенок появится только через несколько часов...
Авроре сменили сорочку, потом ее отнесли на стол для рожениц, устроенный в соседней комнате. Помня первые роды своей сестры, происходившие в традиционном и крайне неудобном кресле с дырой в середине сиденья, которые по старинке использовались в Германии, Аврора уже для вторых родов Амалии потребовала поставить узкую жесткую койку. Посередине этой кровати между двумя матрасами лежала широкая доска с ручками — на таких сооружениях во Франции рожали женщины королевского достоинства. Амалия оценила новшество и теперь, в Госларе, заготовила для младшей сестры нечто подобное — предосторожность, за которую та должна была ее похвалить, если только будет соображать, что происходит...
Сначала схватки происходили с промежутком в десять минут, потом участились и вскоре стали нестерпимыми: у Авроры в голове не осталось ни одной мысли, она уже ничего не слышала, превратившись в комок боли, в рвущееся на части одичавшее существо. Вцепившись в руку Амалии так сильно, что у той затрещали пальцы, она страдала так, что палач с топором показался бы ей сейчас ангелом-спасителем. Это было нестерпимо, невыносимо, и этому не было конца...
Временами она совсем ничего не видела, иногда могла разглядеть сквозь пелену слез неясные, бесцветные, бесполые силуэты. Кто-то протирал ей лицо влажным платком, кто-то старался смягчить благовониями запах крови и пота. Время от времени боль отступала, и она погружалась в сладостное забытье. Увы, эти передышки были слишком краткими, и их снова и снова сменяли вонзенные в ее плоть хищные клыки нечеловеческой боли.
Несчастной уже казалось, что этому аду не будет конца. Из темных глубин накатывали кошмары: она снова видела ненавистное лицо «этой Платен» и страдальческий лик мученика Филиппа.
Потом до ее слуха донесся голос доктора Трумпа:
— Ребенок силен, да еще идет попкой. Надо его развернуть. Мужайтесь, мадам! Держитесь за ручки!
Роженица, только что испытывавшая, казалось бы, совершенно нестерпимые муки, поняла теперь, что худшее еще впереди. Врач шарил у нее внутри, нащупывая головку плода. Вопль, изданный ею, долетел, наверное, до дальних городских окраин. Но и это было еще не все. Прошла, казалось, вечность, прежде чем она услышала голос Амалии:
— Бесполезные мучения! Она умрет, если вы ничего не предпримите. Это какое-то чудовище, а не ребенок!
— Нет, просто он большеголовый, а таз у мамаши узковат... И сил тужиться у нее больше нет. Вы разрешаете мне сделать надрез?
— Делайте что хотите, лишь бы этому пришел конец!
Задыхающаяся Аврора почувствовала ожог: скальпель впился в ее плоть, и за этим последовал пароксизм боли, такой страшный, что дальше уже не было ничего, кроме спасительной бесчувственности...
Рай затмил ад, свет прогнал тьму, и вместе со слабым лучом солнца Аврора ожила. Все вокруг нее было белым-бело: постель, куда ее перенесли, тонкая простыня, которой ее укрыли, скользившие по комнате силуэты. Главным было то, что к ней вернулась легкость, восхитительное чувство невесомости, которому не мешало даже острое жжение, свидетельство ее принадлежности к несовершенному миру. Перегруженная баржа, застрявшая в зыбучем иле, — таким еще вчера было ее тело, — вырвалась из гибельного плена и снова пустилась в свободное плавание...
Она провела руками по опавшему животу и облегченно вздохнула. В поле ее зрения немедленно возникла Ульрика.
— Как вы себя чувствуете?
— Хорошо, даже чудесно! Вот только сил нет...
— Неудивительно — после всего того, что вы пережили! Но, поверьте, оно того стоило! Целых девять фунтов — вот сколько весит наш маленький принц!
— Значит, все-таки мальчик? Я хочу его видеть!
— Потерпите, сейчас с ним кормилица. Наш гигант сосет за милую душу! А пока я помогу вам освежиться и принесу кое-что перекусить. Пора приходить в себя!
— Который час?
— Пять часов вечера.
— Значит, дата его рождения — двадцать седьмое октября тысяча шестьсот девяносто восьмого года?
— Нет, двадцать восьмое. Ему понадобилось двадцать семь часов, чтобы решиться выйти на свет Божий.
— Двадцать семь часов?! И все это время ты была со мной?
— А как же иначе? Мы все от вас не отходили. Зато результат выше всяких похвал!
Еще несколько минут — и «результат» был предъявлен его тетей Амалией, которая с гордой улыбкой отдала младенца матери.
— Он великолепен! — сказала она взволнованно. — Ты можешь им гордиться!
Младенец был действительно замечательный, совсем не красный и не сморщенный, как большинство новорожденных. Аврора с новым для себя чувством любовалась круглой мордашкой, примостившейся на сгибе ее руки. Новое живое существо, в котором течет ее кровь и кровь Фридриха Августа, похожее одновременно и на отца, и на своего дядю Филиппа... У первого он позаимствовал матовый цвет лица, высокий умный лоб, большой рот с приподнятыми, как для улыбки, уголками. У второго — нос, подбородок с ямочкой, миндалевидные глаза непонятного цвета, вернее, всех цветов сразу... Нет, еще слишком рано говорить, какими у него будут глаза. Сладостное блаженство его сна показалось матери умилительным. Она осторожно вложила палец ему в ладошку, и он тут же зажал его в кулачке. При виде этого крохотного кулачка на нее накатила невыносимая нежность. Прикоснувшись губами к его шелковистой щечке, она прошептала:
— Мой сын! — Именно так завороженно начинает беседы со своим потомством любая мать. — Малыш Мориц!
— Мориц Саксонский? — предположила Амалия.
— Увы, пока еще нет. Но когда-нибудь — кто знает?..
Днем