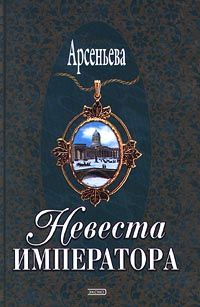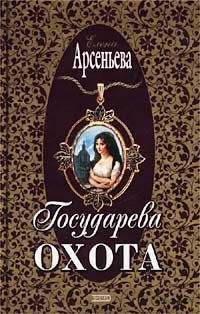Первое опьянение радостью прошло – наступило холодное оцепенение, как расплата за удачу. Он приподнял Савку, прислонил к стене, положил одно мокрое полотенце ему на лоб, другое на грудь и сидел теперь рядом, пристально наблюдая, как синеватая бледность сползает с лица Савки, оно приобретает живые краски, дыхание становится ровнее.
– Скоро очнется, – сказал кто-то совсем рядом, и князь Федор недоумевающе покосился.
Перед ним была Сиверга.
…Она слегка улыбнулась измученному князю, а сама так и шарила глазами по хижине, и ноздри ее маленького носа раздувались, втягивая запахи.
Федор подумал, что ее насторожил незнакомый запах мяты, однако Сиверга на него не обратила ни малейшего внимания: запах распаленных ненавистью мужских тел волновал ее до самых глубин естества! Запах страстной ненависти, близкой смерти… Здесь двое мужчин только что стояли лицом к лицу, а когда двое мужчин желают убить друг друга, почти всегда в деле замешана женщина.
Сиверга хотела быть этой женщиной, но они схватились из-за другой, и нестерпимая ревность терзала ей сердце.
– Что ж ты отпустил его? Или он тебя осилил? – спросила презрительно, однако князь Федор взглянул на нее без стыда:
– Судьба нас обоих осилила нынче… мы теперь снова равны. Теперь опять начинается бой до победы – его ли, моей – богу ведомо!
– Богу богово, – сказала Сиверга, и Федор невольно улыбнулся: так странно прозвучало это расхожее выражение из уст туземки. – Но я – тудин, я помогу, хочешь?
– Как это? – нахмурился князь сердито. – На ловчую яму Бахтияра наведешь? В болотину заманишь, комарьем до смерти заешь? С тебя станется!
– Нет, зачем так? – обиженно передернула плечами Сиверга. – Это-то любой шаман сможет. Да и ведь я вижу: у тебя руки горят, так хочется сразиться с Бахтияром.
– Хочется! – радостно согласился князь Федор. – Я б с ним каждый день бился-ратился!
– Можно, – кивнула Сиверга. – Это просто. Буду каждый день приводить к тебе тень его, пока все восемь десятков теней его злого духа Городо ты не одолеешь. А с последней тенью и сам враг твой сгинет!
Князь Федор глядел на Сивергу, вытаращив глаза. Много он чего здесь навидался-наслушался, уж, казалось бы, ко всему привыкнуть пора, ко всякой шуточке этой тудин, а поди ж ты – и его оторопь взяла от изумления!
– Ну уж нет! – едва обрел дар речи выкрикнуть возмущенно. – Бахтияр – мой! Ежели нас яд не взял, значит, судьба нам такая: один от руки другого погибнет. И ты в это дело мешаться не смей. Поняла?
– Понятно, что ж! – дернула плечиком Сиверга. – Как хочешь. Пускай и собаки в покое будут. – Она усмехнулась – да и ахнула, увидев искаженные внезапным ужасом глаза князя, его оцепенелый взор: – Что ты? Что ты?
Руки его были ледяными, Сиверга прижала их к груди, силясь отогреть, но он остался безучастен, словно и не заметил, как горячи, пышны, упруги груди под тонкой тканью, как напряглись, налились они, ожидая его ласки…
– Да что с тобой?! – выкрикнула сердито, даже ногой топнула, но Федор не повернул головы.
«Яд нас не взял… яд нас не взял…» – звенело, ухало в голове, и страшное подозрение сковало его покрепче столбняка. Да, их с Бахтияром яд не взял, но ведь Экзили – он помнил, он твердо помнил это! – там, в подвальчике, на улице Сент-Оноре, дважды нарочно предупредил покупателя, что пробки надо завинчивать чрезвычайно крепко, ведь яд легок и летуч. Прежде чем отравить венец королевы Марго, он ни разу не открывал бутылочки. Что, если на Меншикова яд все же оказал свое пагубное действие, а за последующий год просто-напросто испарился? Что, если он все же виновен?
Кто-то тряс его… Князь Федор с трудом прорвался сквозь оцепенение, поднял голову.
Сиверга. Стоит перед ним на коленях, силится заглянуть в лицо, твердит:
– Очнись! Что с тобой? Очнись!
Князь Федор вяло поднял ресницы – и глаза Сиверги впились в его взор, как пиявицы, вонзились, словно острые ножи, вплелись незримыми путами в мысли, как ересивая трава [74] оплетает пшеницу.
Множество мгновенных картин со страшной скоростью замелькало в голове князя Федора, и каждая была ярче вспышки пламени, и каждая обжигала память.
Вот Экзили повернул свое лукавое, черное, орлиное – нет, дьявольское лицо к молчаливому покупателю, передавая ему тяжелый ларец: «Prenez garde, monsieur!» [75] Он увидел себя, затаившего дыхание, чтобы не вдохнуть ядовитых испарений, и отмеряющего по каплям раствор на шелковый комочек, спрятанный в венце многострадальной Маргариты Наваррской. Он увидел Меншикова, сердито закусившего венец, – и Марию, влюбленную, ревнивую, страстную… Чудилось, весь этот многострадальный год сложился во множество многоцветных картинок, стройным, неведомым образом сделавшихся зримыми и понятными Сиверге. Князь Федор мог бы поклясться, что она знает теперь все, что знает о случившемся он, ибо из ее глаз на него глядели то лживые глаза Экзили, то лукавые и в то же время такие простодушные – Меншикова, и Бахтияр глядел на него со жгучей ненавистью… Он сморгнул – да нет, что это ударило в голову? Сиверга глядит на него своими длинными, узкими проницательными глазами, бормочет:
– Все видит Око Земли, знает все!
Она провела по его голове, ласково запуталась пальцами в светлых прядях и, как в прошлый раз, выдернула несколько волосков. Подошла к дупельке в углу, повела волосками по воде, оглянулась через плечо на князя Федора – словно позвала взглядом. Он приблизился, опасливо и в то же время с надеждой глянул в темную глубину, думая, что сейчас увидит Машу, и страдая оттого, что опять лежит на пути к ней сомнение и раскаяние… и отшатнулся: молнии мелькали перед ним, словно решетка, а за этой оградой была другая – из черных туч, но постепенно обе преграды раздвинулись, и, к своему величайшему удивлению, князь Федор увидел тот самый подвальчик на улице Сент-Оноре, в котором сторговался с Экзили. Зловещий итальянец теперь был один и с довольной улыбкою пересчитывал на столе под свечой золотые монеты, вытрясая их понемножку из туго набитого черного бархатного кошеля, расшитого серебряной нитью.
Князь Федор так и ахнул. Это был его кошель, его! В этом самом кошеле он некогда оставил Экзили деньги в уплату за ларец с ядом! Верно, Сиверга показывает ему, что было тотчас после его ухода. Но что же тут удивительного? Несомненно, жадный итальянец сразу кинулся пересчитывать деньги… Э, да он не один!
Князь Федор увидел незнакомого толстяка, чьи глаза, не отрывающиеся от монет, так и маслились восторгом.
– Quanto?.. O! Ricchezza!.. Noi e ricci! Fin dei conti! – воскликнул он и с хохотом бросился обнимать Экзили: – Oh, truffatore! Imbroglione! Questo e la aqua e olio! Tu e re truffatori e imbroglioni! [76]