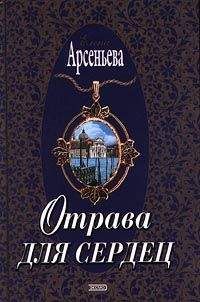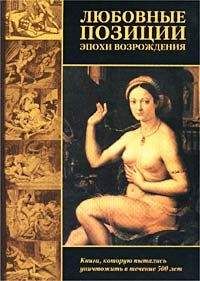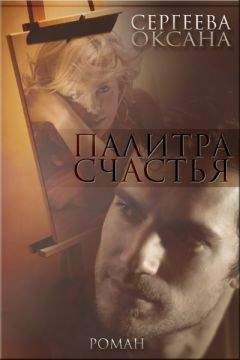Джилья тем временем подошла к тяжелому шкафу, чьи очертания едва можно было рассмотреть, и принялась в нем шарить. Раздалось дребезжание, очертания шкафа заколебались, как бы сдвинулись; Джилья удовлетворенно хмыкнула – ну а Троянда едва сдержалась, чтобы не надавать самой себе тумаков.
Hеудивительно, что прикосновение драпировок и самый воздух этого помещения показались ей знакомыми! Здесь, закутанная в портьеры, она простояла немалое время, слушая, как Аретино науськивает и стращает рыжебородого пирата Хайреддина Барбаруссу, лживого Луиджи Веньера. И ведь знала, знала же, что здесь есть тайник! Почему же оказалась столь глупа и несообразительна, почему даже не вспомнила об этом поставце с секретной дверцей? Уж, казалось бы, кому-кому, а ей, знакомой с самыми тайными ходами монастыря Мизерикордия, следовало хотя бы поискать ход в темницу. Нет… сидела и ждала! Или впрямь Джилья способна напускать на людей злые чары: на Аретино – невстаниху, а на Троянду – оцепенение мыслей? Оправдать себя она могла только тем, что слова «подземная темница» сочетались для нее со спуском куда-то вниз, а все подходы к подвалам, все двери нижних этажей в доме Аретино были заперты либо неусыпно охранялись. А они с Джильей находились во втором этаже и не спустились еще ни на одну ступеньку!
Впрочем, как выяснилось уже через минуту, спускаться им еще предстояло долго… вернее, одной Троянде, потому что Джилья в тайник и шагу не шагнула. Ну что же, в самом деле: свое обещание она выполнила, ход показала – дальше Троянде приходилось рассчитывать лишь на свою удачу (или неудачу, это уж как бог даст!).
– Смотри не забудь! – наставляла ее Джилья напоследок, сунув Троянде в руки свечной огарочек, столь малый да тусклый, что едва рассеивал тьму. – Стражник тебя пропустит без слова, я с ним все уладила, – но он будет думать, что это я, а потому молчи как рыба, даже если он захочет с тобой полюбезничать. Впрочем, он свое уже вчера получил, а поскольку знает, что у стен могут быть уши, думаю, предпочтет молчать.
С этими словами она втолкнула Троянду в узкий лаз. Та медленно, нашаривая ногой, спустилась на несколько ступеней – и резко обернулась, испытав вдруг мгновенный приступ ужаса: а вдруг Джилья вздумает подшутить и закроет потайную дверь? Что, если механизм приводится в действие только из кабинета?..
Джилья, которая еще не ушла, чудилось, прочла ее мысли и, невидимая, тихо рассмеялась:
– Да ладно тебе! Что я, уж вовсе зверь, что ли? А потом, не забудь: сто тысяч маленьких хорошеньких стражников охраняют тебя! В золотых доспехах!
Да, похоже, Джилью следовало благодарить прежде всего за ее непомерную жадность!
Не описать, сколько страхов и опасений испытала Троянда, меряя ногами бесчисленные ступеньки! И когда из тьмы вдруг выступила еще более темная фигура – стражник, – ее так трясло, что она бы не смогла пуститься с ним в разговоры, даже если бы хотела. По счастью, ему и самому было не по себе, поэтому он только махнул рукой Троянде, приказывая подождать, и принялся отпирать тяжелый замок. Ключ скрежетал, словно рычал какой-то зверь, и у Троянды сжалось сердце, стоило представить, сколько смятения, внезапных надежд и разочарований вот уже который день вызывает этот звук в душе узника. Каким она найдет его? Отчаявшимся, обессиленным? Или он тоже видит в ней причину всех своих несчастий, а потому Троянду встретят грубость, оскорбления, презрение? А ведь она пришла спасти его. Вот этот черный тяжелый плащ надет не зря: он как бы растворяет человека в темноте, сливает его с мраком. Часовому ни за что не углядеть, чья фигура, мужская или женская, скрыта этим плащом. Григорию тоже придется молчать, и тогда стражник будет оставаться в уверенности, что это Джилья пришла – Джилья и ушла… до тех пор, пока не пройдет достаточно времени и Троянда не сочтет возможным открыться: начнет колотить в дверь, поднимет крик, мол, русский оглушил ее, сорвал плащ и бежал, воспользовавшись темнотой. Конечно, Григорий может заупрямиться, он ведь благородный человек и не захочет подвергать ее опасности, но она скажет, что Аретино ей все простит, потому что любит ее. Ну, побранит, конечно, но не убьет же! Надо говорить как можно более убедительно. Григорий должен поверить, что она хочет лишь отплатить добром за добро, но ничем не рискует…
Чудилось, уже век она стоит под дверью, и ждет, и трепещет, и сомнения грызут ее, словно стаи летучих мышей, внезапно налетевших из тьмы подземелья, – но вот наконец замок поддался, дверь отворилась, Троянда вошла в камеру, с дрожью услышав, с каким лязгом затворилась за нею тяжелая створка, – и тут же огарочек выпал у нее из рук. Она еще успела услышать, как он, зашипев, погас на сыром полу, а потом на голову обрушился удар – и тьма завладела всем ее существом.
* * *
Как и было обещано, в боковом канальчике, больше похожем на крошечную бухточку, его ждала лодка. Сидевший на веслах матрос, похоже, извелся – так вскинулся, так взволнованно залепетал:
– Monsier, monsier Gregore! Vivat!
Он был из Марселя, его так и звали – Марсель, и Григорий, не считая своих, русских, всегда предпочитал бесшабашного француза остальной команде. Сейчас он был рад увидеть именно его, потому что Васятка еще прикован к постели, а Прокопий… ну, Прокопий, понятное дело, стережет деньги.
Марсель протестовал, но Григорий все же схватил одно весло. И быстрее догребут вдвоем, и так хочется поразмяться! Все тело его застоялось, засиделось, залежалось за эти несколько мучительных дней. И гнусный запах сырости въелся во все складки, во все поры! До смерти хотелось сейчас же плюхнуться в воду, смывая тюремную грязь, но Григорий опасался тратить время. Он все еще не верил, что нет погони.
А ведь минута была острая… Брезгливо отпихнув повалившееся в его объятия тело, он сорвал плащ, который оказался так просторен, что Григорий смог укутаться в него с головой, и замолотил в дверь. Стражник, верно, не успел отойти, а может, подслушивал, потому что отпер мгновенно, и Григорий устремился в образовавшуюся щель подобно зайцу, гонимому лисой. Он понесся вверх по крутым ступенькам, сдерживая тяжелое дыхание и моля бога, чтобы сапоги его не топали, а стражник не сунулся бы в камеру. Тот, конечно, остолбенел бы: ему небось отродясь не доводилось видывать свиданий, длившихся полминуты! Конечно, Григорию следовало бы помедлить, но он не мог себе этого позволить: опасался проникнуться сочувствием к своей жертве. Все-таки хоть и отъявленная тварь, а какая-никакая женщина. Женщин Григорий всегда жалел – опасался пожалеть и эту, несмотря на все ее отвратительное притворство и всяческие ужимки. Нет уж, чем скорей и чем дальше он отсюда окажется, тем лучше.