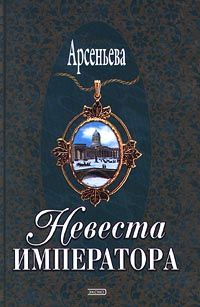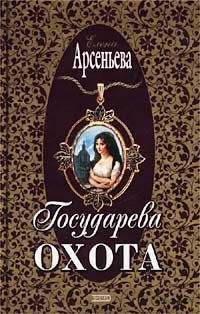А здесь только совы! Он с ненавистью взглянул вверх. Чертова тварь, которая распугала всех птиц, хвала аллаху, не маячит больше над головой. Отвязалась!
Бахтияр со вздохом приостановился, снова и снова думая, какое наваждение повлекло его сюда, в Березов. Он был свободен – Варвара-ханум дала ему вольную. Он мог уехать в горы, он мог остаться в столице, без труда найти службу – многие дамы глядели на него с вожделением, а он уже успел узнать, как недолог путь от кучера, лакея, гайдука до господского постельного угодника, когда тебе едва за двадцать и ты высок, строен, черноглаз и страстен… страстен, как барс!
Бахтияр упал на колени. О, чертова баба! До чего она довела его своей холодностью! В мечтах он уже тысячу раз валил ее на траву, на пол, на топчан, кое-как застеленный шкурами, на лавку и, задрав ей на голову юбки, изливал в нее всю ту похоть, которая изводила его вот уже больше года, с тех самых пор, как это упругое тело от ударов Варвары-ханум вздрагивало, прижимаясь к его спине, с тех пор, как он увидел ее разверстое алое лоно, но не успел заполнить его собой…
Tяжесть в паху стала невыносимой. Бахтияр упал на колени, прижал ладони к низу живота. Да что ж ему, козу, что ли, обработать? Или важенку?! Порою он чувствовал, что вот-вот лишится рассудка при виде Марии!
И, верно, уже лишился, потому что вдруг увидел ее, понуро сидящую на солнечном припеке и печально перебирающую что-то в подоле платья.
Стоял как прикованный… и так было всегда! Сколько ни видел ее, какой ни видел – роскошно одетой, величавой или оборванной, усталой – первым чувством был восторг – остолбенение от этой красоты. Все мужчины, чудилось, вожделеют ее – и он готов был когтями и зубами весь мир изорвать, ибо она по праву принадлежала ему!
Мало-помалу прошел туман в глазах. Что это она там делает, уткнувшись в подол? Что там у нее – трава, цветы?
Подкрался – он умел ходить бесшумно, как рысь, – и горло перехватило от ненависти: она ласкает эту проклятую зеленую тряпку, которую Бахтияр бросил в лицо гяура! Значит, они снова виделись? Когда?!
Перестав владеть собой, он ринулся к Марии, схватил за плечи, вздернул, переполненный ненавистью, почти желая увидеть страх и отвращение в ее глазах, услышать гневный окрик, потому что это развяжет его душу, развяжет руки – и он сможет ударить ее в лицо раз, и другой, и снова, снова, пока вместе с яростью не выльется переполняющее его вжеление [80].
Он взвизгнул яростно, она откинула голову, взгляды их скрестились, черные и серые глаза, чудилось, высекли молнии… – и вдруг Мария хихикнула. И еще, и еще – и зашлась тихим, безудержным смехом, вся сотрясаясь, дрожа, волнующе трепеща в его руках, судорожно тискавших ее плечи.
Голова ее запрокинулась, горло напряглось… о, так и впился, перервал бы зубами! Нет! Отшвырнул ее. Она не удержалась на ногах, упала навзничь, и зрелище ее расстегнутого ворота, в котором билась сливочная белизна налитых грудей, лишило Бахтияра рассудка. Он упал на колени, воздел руки к небу, умоляя дать ему смерть здесь, сейчас, сию минуту, – и замер, не веря своим ощущениям: рука Марии скользнула по его колену, поднялась по бедру и мгновенным, резким движением стиснула мотню портков, переполненную разбухшим удом.
– А-ах! – На мгновение лишившись сознания, он запрокинулся назад, упал, больно выворачивая ноги, но не почувствовал ничего, кроме невероятного, всепоглощающего ощущения освобождения… да, да, тиски, в которые он был скован больше года, разжались, и он извергся прямо в дерзкую ладонь. Однако слишком долго он ждал, слишком долго терпел, чтобы вот так, за один раз, иссякнуть. Чуть перевел дух, чуть перестала плясать перед глазами разноцветная муть, как его мужская сила вновь налилась – и он решил, что уже вознесся в рай, ибо лежал голый на траве (не иначе гурии небесные сорвали с него одежды!), а перед ним сияли пронизанные солнцем золотистые пряди, закрывая лицо той, чьи губы покрывали поцелуями его грудь!
Но он знал эти волосы! Он узнал бы их, не видя!
И все-таки он еще не верил… не совсем верил… все это могло быть сном, призраком, солнечным ударом!
Протянул руки – они ощупали круглые плечи, скользнули по тонкому стану, возлегли на округлые прохладные бедра, – и он поверил! Поверил!
Она стиснула коленями его бедра, подпрыгнула – и понеслась, погнала вскачь, молодая всадница, подбадривая своего жеребца хриплыми, гортанными кликами, и он надсаживался, подкидывая бедра так, что она отрывалась от земли и вскрикивала не то от испуга, не то от наслаждения. Почуяв приближающийся пик восторга, он завизжал:
– Айя! Айя-а! – и извергся весь, без остатка. Облегчение было таким полным, таким опустошающим, что он лишился сознания и не видел, как его пылкая любовница сползла с его недвижимого тела на траву и долго молча озирала его смуглое поджарое тело своими узкими, длинными, черными глазами, такими непроглядными и непроницаемыми, что никто, будь он хоть семи пядей во лбу, не мог бы разгадать, какими чувствами полон этот взгляд.
За миг до того, как сознание воротилось к Бахтияру, она учуяла это, подхватилась, собрала свою раскиданную одежду и, почти не касаясь травы, понеслась в кусты, так что, когда опьяненный черкес очнулся, он был один… только на кривом дубовом суку сидела большая рыжая сова и вертела ушастой круглой головой, словно осуждающе покачивала ею.
«Пошла… тварь!» – хотел крикнуть Бахтияр, хотел приподняться, но рухнул на траву. Сейчас он муху с плеча не мог бы прогнать, не то что сову, которая лупала глазами и сипела, словно смеялась над поверженным человеком.
Наконец он нашел в себе силы нашарить рядом с собою какой-то сучок и метнул в сову. Она-то, конечно, улетела, однако Бахтияр тут же раскаялся в своей прыти: сердце заколотилось как бешеное, словно грозило прорвать грудину и вырваться наружу, в глазах заплясали молнии… Он зажмурился, пытаясь отдышаться, но, когда снова осмелился открыть глаза, молнии не исчезли – они вспыхивали в вышине так ослепительно и непрерывно, что не только померкшую поляну озаряли призрачным бледным светом, но и кромсали тяжелые тучи, вмиг скопившиеся в небе. Лес потемнел; слышен был рев вспененной ветром реки. Оглушительный гром слился в грохот. Под бешеным натиском ветра и крутящихся в нем вихрей гнулись до земли и рушились большие и малые деревья, а с тех, которые выдерживали напор стихии, облетали листья, обламывались ветви. Взрывы грома, гул ветра, шум атакуемой листвы и грохот падающих деревьев слились воедино. Все небо было испещрено огненными стрелами, зигзагами; некоторые из них горели так близко к земле, что голому, беззащитному человеку, распростертому на поляне, становилось страшно, словно некое небесное божество разгневалось на него неведомо за что.