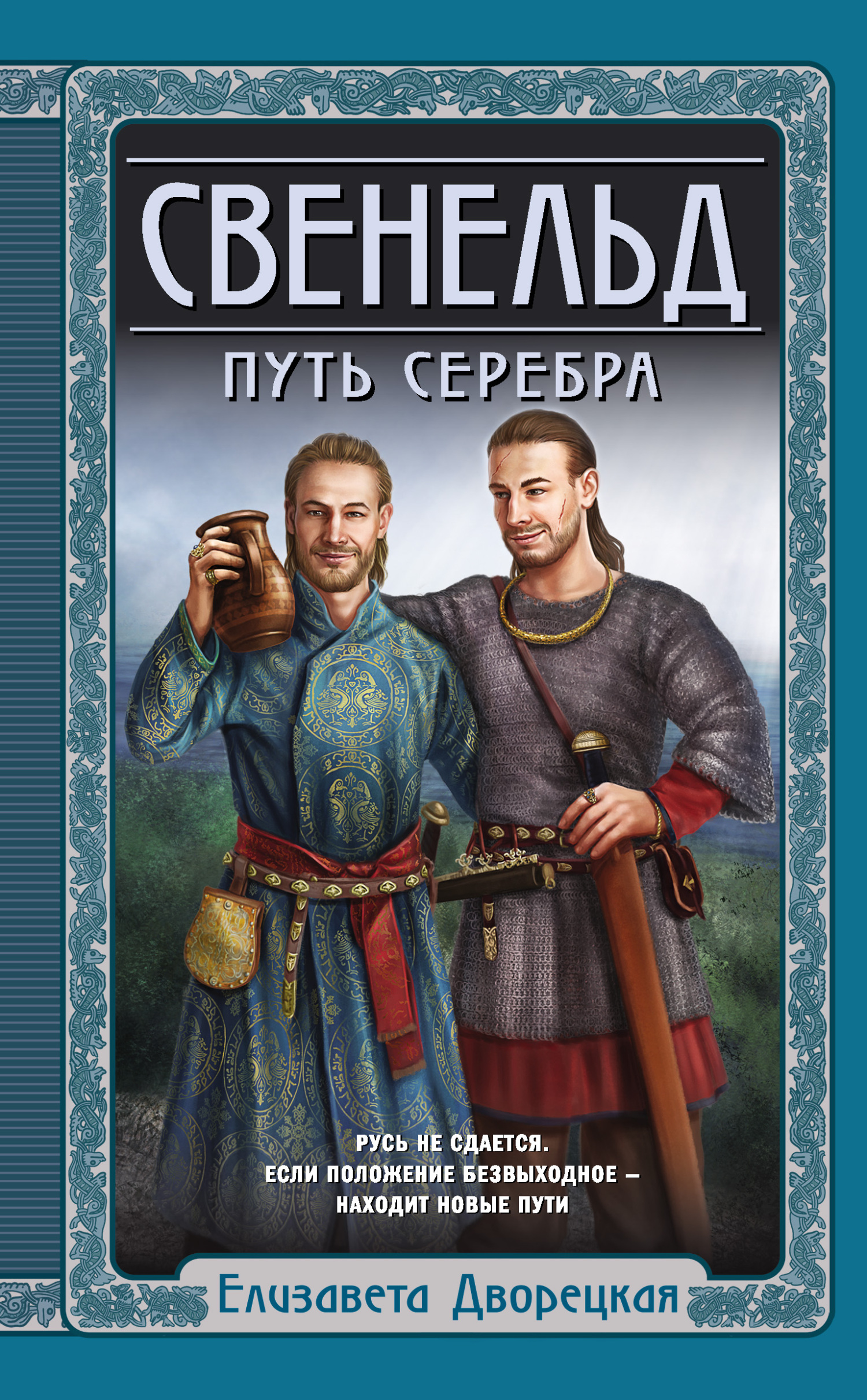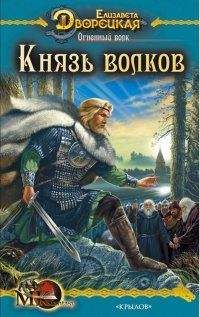– прикрывал его отход. Но право решать принадлежало ему, а он верно понимал свой долг и свою честь как вождя. Поэтому я сейчас здесь, а он… надо думать, за столом у Одина. Вот все, что я могу вам поведать.
Хельги молчал, с каменным лицом глядя перед собой. Брюнхильд оперлась опущенной рукой о стол, ее плохо держали ноги. В груди теснило, трудно было сделать вдох. По словам Амунда выходило, она сама и ее отец виноваты в смерти Грима. Если бы они тогда в Чернигове добровольно отдали власть над войском Амунду… Или хотя бы не мешали жребию и позволили богам высказать свою волю… возможно, Грим сейчас был бы с ними. А если бы Амунд не вернулся с берегов Итиля, для Хельги это было бы скорее благом, чем бедой. Особенно если бы Хельги принял его сватовство за Брюнхильд и позволил даже справить свадьбу до ухода войска – Амунд ведь и это предлагал. Сейчас она была бы единственной владычицей земли Бужанской…
Брюнхильд ловила воздух приоткрытым ртом – ей так ясно виделось, как все могло бы сложиться по-другому. Благоприятно для Хельги и его рода. Если бы он позволил судьбе идти ее естественным путем. Но он принял решение сам – нужное и выгодное для себя решение, как это виделось в те дни. А теперь оказалось… Норны ли наказали Хельги Хитрого за вмешательство в их дела? Или судьба изначально такой и была?
«Победа достается то одному, то другому, – сказал ей Амунд на прощание три лета назад. – В другой раз мне повезет больше…»
Так вот в чем заключалось его везенье. Вот в чем была его победа – он проиграл власть над войском, но выиграл жизнь. А у своего брата Грима она, Брюнхильд, сама жизнь отняла, когда подала Амунду чашу с хитро составленными добавками греческих зелий…
Если бы сейчас земля под ногами разверзлась и поглотила бы Брюнхильд, она бы не удивилась. Не в силах взглянуть на Амунда, на отца, на кого бы то ни было, чувствуя, что еще немного – и слезы отчаяния пробьют себе путь наружу сквозь броню привычного самообладания, она сошла с места и направилась к выходу. Поступь ее была величава и плавна, хоть она и не чуяла земли под ногами. Будет великой милостью богов, если все гости этого пира не поймут Амунда так же ясно, как она сама.
На другой день уже весь Киев знал, с чем вернулось войско. На белой заре княгиня Бранеслава вышла из шомнуши, одетая во все белое – в «печальную сряду». Поднявшись на забороло, откуда ее дети лишь вчера высматривали лодьи, она протяжно причитала, обращаясь к широко раскинувшейся под ней земле – горам и Днепру, пашням и лугам, ручьям и оврагам:
Выхожу я, сиротиночка,
Во широкое во полюшко,
На проезжу путь-дороженьку,
Распущу я свой зычный голос,
Как по лесу да по темному,
Как по полюшку широкому,
Как по морюшку глубокому,
За болота за зыбучие,
За леса да за дремучие,
За оградушку высокую,
На могилочку глубокую,
Ко тебе, моя детиночка,
Буду звать да дозыватися,
Буду кликать-докликатися…
В тихий утренний час ее голос было слышно далеко – будто кукушку в тихом лесу. Будто богиня Желя у края неба горюет по всем сотням и тысячам погибших. И то, что «сиротой», потерявшей самого дорогого из родичей, стала сама княгиня, набрасывало горькую тучу сиротства на весь Киев.
Я бы знала, сиротиночка,
Не поспала б ночку темную,
Заперла бы тебя, мое дитятко…
Не просто сын умер у матери – сгинул у земли Русской ее будущий князь. Княгиня исполняла «первый плач» по всем погибшим, за ней Венцеслава и Брюнхильд стали кликать душу брата:
Сама знаю, сама ведаю,
Что у братца у родимого
Есте платьице не цветные,
А есте платьице умершие.
Он собирается-снаряжается
Он во матушку сыру землю…
Они не обряжали и не хоронили его – и не знали, сделал ли это хоть кто-то, был ли он похоронен. Но хотя бы душа его, где бы она ни была, должна была получить и нужное платье, и указание пути.
За ними подхватили женщины почти на всех дворах. Русов и полян, павших в чужих краях, насчитывалось за три сотни, и мало не на каждом дворе имелись ближние или дальние родичи кого-то из них. Все утро киевские горы и урочища причитали сотней голосов; иные причитальщицы поднялись на высокие места, откуда далеко улетевшим душам их лучше слышно, иные остались во дворах и садах, и оттого казалось, что причитает сама земля и небо. Потери были у многих, но ни у кого не было свежей могилы, и горюющие женщины расходились, как белые птицы, по оврагам, ручьям, по высокому речному берегу, к броду, к камням и священным деревьям, в бани – по всем местам, откуда ближе к тому свету. Начинала старшая женщина, уже хоронившая близких и умеющая заглядывать на тот свет, за ней повторяли те, кто переживал это впервые. И тот свет открывался для них, чтобы навсегда тонкой тенью остаться где-то рядом, за плечом вдовы или сироты.
Бросив привычные дела и работы, простая чадь собиралась толпами на пустырях меж дворов, на причалах, у боярских ворот. Пересказывали друг другу слышанное старейшинами на пиру у князя, а того больше – разные слухи и домыслы. Уже было известно, что к беде привело предательство хазар, звучали негодующие крики, призывы к мести.
Князь осунулся и был молчалив, только расхаживал по гриднице, напряженно обдумывая все услышанное и прикидывая, как дальше быть. Он успел повидать Грима и знал, каким молодцом вырос его старший сын от Бранеславы, тот, кто должен был со временем занять его место. Кроме сына и дружины, был потерян торговый мир с хазарами. Эту потерю мог возместить заключенный два лета назад договор с греками, но как на нем скажется позор провального похода? В Константинополе наверняка уже знают о нем.
В гриднице, однако, собралось даже больше людей, чем обычно. Явились многие из киевских старейшин – разузнать, что теперь будет, что собирается делать князь, да просто понять, что думать об этих делах. Большая часть пришедших были в белой «печальной