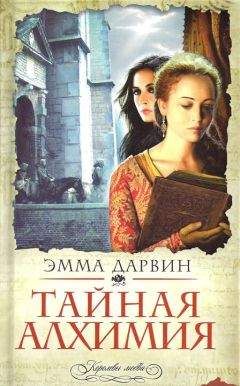Мне очень холодно.
Все это время мальчик тихо сидит рядом со мной. Большинство мальчишек не могут просидеть тихо и двух минут, хотя я обучал Неда вести себя как истинный король. Но этот парнишка Стивен — тихий и вдумчивый мальчик и составляет мне компанию, не тревожа моей души.
Мне сказали, что Ричарда Глостера завтра объявят королем. Если бы меня это заботило, я бы счел, что он боится меня — раз не совершает столь незаконное, предательское деяние, пока я еще жив. Но если это уже решенная вещь, тогда закон и обычный люд не помешают ему. Не больше, чем помешали приговорить меня к смерти, хотя сам Совет не смог найти никаких оснований для привлечения меня к суду за измену. Как бороться с великим человеком, который будет делать все, что пожелает, хотя это запрещает ему закон? Может быть, так будет всегда, пока королям нужны великие люди, чтобы править за них.
Если Ричарда должны провозгласить королем, с моим мальчиком все кончено. Ричард прекрасно знает, знает лучше других, как легко убить короля, когда у тебя есть ключи от Тауэра и страже велено отвернуться.
Мне очень холодно. Я складываю письмо Елизавете, потом беру свечу и держу ее наискосок, капая на письмо воском, чтобы запечатать. Одно биение сердца — и на желтоватый пергамент падают красные капли, образуя круглое озерцо, влажное и блестящее, как кровь. Потом к воску прижимается печать, красное окаймляет медь. Еще вздох, и я поднимаю кольцо: на письме остается раковина пилигрима, твердая, быстро застывающая.
Без единого слова мальчик берет письмо и складывает его вместе с другим, потом говорит:
— Выпьете еще вина, сэр? Оно вас согреет.
— Нет, спасибо.
— Принести одеяло?
— Да, если нетрудно.
Он накидывает одеяло мне на плечи. Оно грубое и тяжелое, и все равно я дрожу. Я не могу просидеть, бодрствуя, всю ночь. Я делал это много раз, чтобы помолиться или приготовиться к битве. Но завтра я не должен ослабеть телом или умом.
Часовые перекликаются, сменяясь.
Не знаю, сколько еще часов мне осталось, знаю только, что рассвет в середине лета наступает довольно скоро.
— Может, я теперь посплю. Ты попросишь, чтобы меня разбудили, когда появится священник?
Я беру со стола четки, они тяжелые и холодные, потому что только молящийся согревает их.
— Да, мой господин, — отвечает Стивен, не отрывая глаз от щелкающих, падающих золотых бусин.
Я сажусь на край кровати.
— Никогда не мог заснуть перед битвой, — говорю я и в свете свечи вижу, что он думает: каково это — знать, что на рассвете будет битва?
Я плотно заворачиваюсь в одеяло и ложусь спиной к стене.
— Погасить свет?
— Нет. Оставь его гореть.
Мои глаза полузакрыты.
Стивен движется тихо, медленно, ставя на поднос чашки и полупустую флягу с вином. Наконец он идет к двери и поднимает руку, но колеблется. Может, он думает, что я уснул, и не хочет будить меня, постучав в дверь, чтобы его выпустили на волю.
— Ты останешься?
Я едва сознаю, что говорю. Должно быть, это мысль, а не голос. Но нет, он слышит меня и поворачивается.
— Сэр?
— Пожалуйста, составь мне компанию.
Он так и поступает, сперва окликнув часовых, которые хмыкают в знак согласия.
— Выпей еще вина, налей и мне немного и сядь, — слегка приподнимаясь, говорю я.
Стивен наливает в обе чашки и вкладывает одну из них мне в руку, прежде чем поставить на стол вторую.
Я пью, потом снова ложусь.
Если бы я мог думать только о Ясоне, когда в конце путешествий его убила рухнувшая балка корабля «Арго», получившего свое имя в Додоне, поскольку «Арго» был даром богов… Если бы я мог думать только о нем и знать, что все случившееся со мной — также воля Бога, я встретил бы смерть со стойкостью истинного мужчины.
Но сон не приходит ко мне. Я лежу и думаю о Стивене.
Знает ли он, почему я попросил его остаться? Что воистину он может знать о том, что известно мне? Он, вероятно, никогда раньше не спал один в постели, никогда не участвовал в битве, не читал поэмы и не путешествовал дальше Йорка.
Он должен учиться, должен понять, к чему именно стремится.
— Когда меня впервые схватили, я думал, что от меня избавятся тайно. Я боялся, что не узнаю часа своей смерти.
Мальчик пристально смотрит на меня.
— Я пытался сделать так, чтобы моя душа была готова к смерти в любой момент. Молился целый день и каждый раз, когда слышал, как отодвигаются щеколды, молился еще сильнее: «Deo, in mano tuo…»[111] Прошли недели, прежде чем я осознал, что ничего подобного не произойдет. Час или два я надеялся. А потом понял, что все равно умру и уже неважно, каким образом… — Сна у меня ни в одном глазу, а потому я продолжаю: — Видишь ли… — Я тянусь за чашкой с вином. — Я понял, раз нет необходимости убивать меня тайно, это потому, что Ричард Глостер не боится мести… Он знает: Эдуард никогда не станет королем. И тогда я понял, что Нед… что Эдуард, должно быть, всецело во власти Ричарда… Если отчаяние — грех, с тех пор я нагрешил больше, чем за все годы, проведенные в этом мире. — Капля вина бежит из уголка моего рта и падает на подушку. Я вытираю ее. — И сегодня я понял, как я был прав, боясь за Эдуарда. Тебе сказали, что Ричард сместил его?
Стивен молчит. Наверное, из-за своей верности — он же человек Ричарда, в конце концов, носит его значок с кабаном вместе со значком своего хозяина, как делают и многие другие. А может, он не понимает.
— Лучше бы от меня это скрыли. Мне осталось всего несколько часов молиться за Эдуарда. Теперь уже не о том, чтобы он правил. О том, чтобы жил. — Одеяло упало, и меня обдало холодным воздухом. Я натянул одеяло снова. — Я научил его всему, чему мог. Он узнал о Боге и святых, выучился истории, тому, что такое хорошее правление, как управлять людьми, как биться на рыцарском поединке, как петь, как охотиться… Подай мне мой служебник. Он там, на столе.
Все эти глупые сожаления — скорее боль, чем высокие материи. Я не должен позволять себе думать о них.
Стивен вкладывает книгу в мою руку, я сажусь и открываю ее.
— Придвинь свечу, паренек.
Но тьма в комнате как будто душит свет, и я не могу разобрать слова.
— У меня туманится в глазах… Ты обучен грамоте? Латыни?
— Да, немножко, сэр.
— Подойди ближе и прочитай мне что-нибудь. — Я переворачиваю страницы, они мягкие от частого употребления и изучения. — Вот, «Oratio ad sanctissimam Trinitatem».[112]
Он берет книгу и смотрит на нее. В Нортхемптоне у меня не было времени, и эта маленькая книга — все, что я успел с собой захватить. Я вижу, что парнишка разочарован и книгой, и ее маленькими, грубыми гравюрами, и мной как ее владельцем.