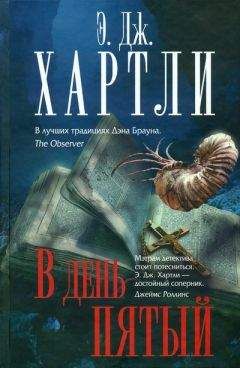Голова шла кругом. Канарейка в клетке заливалась музыкальной трелью. Сердце в груди сжималось. Становилось душно. Констан вынул из-под воротника рубашки белую вставку и бросил ее на дно тульи перевернувшейся шляпы, тяжело встал на ватные ноги, прижимаясь к двери, скользя по ней спиной вверх, и придерживаясь за стены руками. И только сейчас почувствовал, как по-настоящему сильно взволнован. Дюмель зажмурился и глубоко вздохнул, опустив голову. Мысли вновь скакнули в сторону: если до этой секунды Констан думал про Бруно, то сейчас он пытался справляться с грехом, который неотступно надвигался на него, которому было сложно противостоять. Лицо обдавало жаром. Сердце стучало в ушах. Внутри всё кипело. С каждой новой секундой Констан сдавался. Наконец он пал.
Он дошел до кровати, сдернул с нее темно-коричневое легкое покрывало, достиг настенной полки с фигурками и распятием. Накинул покрывало на образы святых и расправил его, прикрывая и сам крест с мучившимся на нем Спасителем, и полку с незажженной свечой и фарфоровыми статуэтками.
— Прости меня, Господи… — прошептал Констан, разворачиваясь, и вновь отошел к кровати, рядом с которой на стене висело зеркало. Он остановился напротив, склонив корпус вперед, и уперся ладонями в стену по обе стороны своего измученного отражения в раме. На него смотрели глаза каявшегося и глаза алчущего одновременно. Сбиваясь дыханием, Дюмель опустил одну руку и медленно расстегнул брюки. Замешкался и зажмурился, глубоко вздохнув. Когда он вновь открыл глаза, из зеркала на него смотрел уже не он: уверенный и решимый тип, который и кивнул ему.
— Прости меня… — Еще пару раз произнес Констан, глядя в зеркало на отраженное покрывало, ограждающего святость, что была упрятана под ним, от низости и пошлости. Дюмель продолжал думать, что Бог — везде и что ткань совершенно не поможет укрыть Его от свидетельства человеческого бесстыдства. Но хотя бы он, Констан, не увидит Его глаз.
Рука оказалась под брюками, ладонь обвила дающего живое семя, пальцы сжались. Дюмель злился на себя и истово наказывал. Из зеркала смотрел сосредоточенный и суровый, возбужденный счастливец, то сжимающий тонкие губы, то тихо и протяжно постанывающий.
Из тела словно утекала жизнь, обретая средоточие жара внизу живота и вырываясь наружу. Ноги будто вросли в пол, а руки становились деревянными и непослушными. Хотелось вылить всю горечь, все осуждение, все желание, скопившиеся в душе, в протяжный звук, но нельзя привлекать внимание соседей. И тем не менее Констан не сдержался. Когда чувства взорвались в нем, он испустил стон, качнулся вперед, прижался к стене и приложился лбом к зеркалу. Глубоко задышал, стекло в раме быстро запотевало.
Через пару секунд послышался звук открываемой двери соседней с Дюмелем комнаты, а спустя мгновение к нему постучались.
— Мсье Дюмель! Констан! Вам плохо? — участливо спросил сосед. Это был Бертран, добродушный усатый и полный обувщик, разменявший шестой десяток.
— Нет. Нет, мне… Уже лучше. Мне хорошо. — Сглотнув, Дюмель попытался обрести твердую нотку в голосе, но получилось плохо. — Спасибо… Хорошо, — добавил он уже тише, скорее для себя, и закрыл глаза.
Глава 5
Август 1938 г.
Дни складывались в недели. Лето мчалось со скоростью паровоза. Встречи Дюмеля и Бруно вновь стали происходить чаще: у обоих закончилась учеба, и вновь появилось время для разговоров. Дважды, а то и трижды в неделю Лексен на всех парах мчался к церкви, в тень каштанов и прохладу фонтана, туда, где ждет его Дюмель, и каждый раз ощущал в душе невероятную легкость и беззаботность, ожидая от встреч новых надежд и впечатлений. Он нашел работу, с чем не преминул поделиться с Констаном: по утрам он помогал поставщикам, развозящим овощи по рынкам, разгрузить продовольствие на прилавке, а вечером сидел в конторе администратора главного городского рынка и регистрировал маршрутные квитанции. Работа технически не сложная, но физически уставалось, хоть Бруно и был занят этим в общей сложности пять часов в день. Денег давали немного, но Лексен тратил их только на покупку спичек и сигарет, остальное отдавая матери. Элен приняла его выбор, но так не поддержала до конца, считая, что сын еще слишком молод для таких изматывающих физически работ и лучше бы шел обучаться дальше. Однако в душе она была горда за него, что он попробовал выйти во взрослую жизнь и заработать себе на первый хлеб. Элен не переставала поражаться изменениям, происходившим с ее Пьером. Он стал чаще заговаривать с ней и быть подвижнее. Женщина связывала это с таким судьбоносным знакомством с Дюмелем. Лексен всеми силами старался сберечь от матери свою тайну — тайну близкого постижения мужчины, и не просто какого, а того самого служителя Констана, что вытаскивал его из глубин на свет. Записи в подаренном им дневнике стали чувственнее, а желание сблизиться с ним возрастало с каждой новой встречей. Но, дабы не давать мыслям постоянно быть окутанными сладострастными видениями, Бруно находил упоение в физическом труде и в долгой затяжке дешевой сигареты.
В нем пышет юность. У него всё впереди. Он самый счастливый на свете — у него появился Констан.
Между тем Дюмель на другой день, после того как поддался влечению к юноше, чувствовал себя прескверно. День казался вечным, церковная служба словно растянулась во времени, а голос Паскаля превратился в густейший кисель, который лился прямо в уши, забивая их. Констан казался рассеянным и пару раз вступил не в том месте, о чем потом сильно сожалел. В перерывах он старался лишний раз не попадаться на глаза преподобному, отсиживаясь в своей комнатке либо делая вид, что очень занят подготовкой к следующему таинству и службе или чтению, суетливо бегая от рядов к алтарю, от придела до трансепта в поисках дополнительных несуществующих занятий. Констан даже всерьез начал думать, а не посетить ли ему исповедальню, правда, в другом храме, не здесь? Лучше вообще на другом конце города, чтобы никто из священников прихода, к которому относится его церковь, не знал, что их молодой брат таит в себе темные, неугодные Богу помыслы. Вечером того дня Паскаль специально караулил Констана у выхода из парка, чтобы спросить о его здоровье: ведь тот был потерян и словно болен.
— Нет, преподобный, нет. Простите. Я… я не знаю. Еще вчера почувствовал себя нехорошо. Но… сейчас вроде лучше, — соврал Дюмель, стараясь избегать взгляда наставника.
— Может ты день, другой отлежишься дома? — заботливо, по-отечески предложил пожилой священник.
— Нет, спасибо. Мне правда легче. Даже не знаю, на что эту слабость мне списать…
Дюмель несколько дней, до новой встречи с Бруно, свыкался с мыслью, что обратного пути ни у него, ни у Лексена нет. Оба переступили грань, которую так хотели и одновременно так боялись преодолеть. По-прежнему быть уже не могло.
Их очередная встреча после поцелуев в садике и комнате Бруно была скомканной. Оба боялись сказать друг другу лишнее и повести себя как-то вызывающе, поэтому специально сели на скамейку близ пруда, на виду у всех, чтобы не было соблазна вновь повторить тот внезапный и случайный опыт уже на глазах парижан. Бруно опять держал руки в карманах и оглядывался по сторонам. Растительность на лице он так и не брил, и она уже превратилась в бородку. Дюмель держал ладони, сомкнутые в замок, на коленях и смотрел на отражения людей и деревьев в пруду. Так еще несколько встреч оба жаждали видеть друг друга — но затем молча сидели или гуляли, лишь изредка нарушая тишину какими-то дежурными, абстрактными фразами. Однажды Бруно рассказал о своем первом опыте работы и показал новую кепи, которую купил на первый аванс. Дюмель между прочим обмолвился, что в начале сентября у него недельный отпуск и он думает съездить к матери в соседний городок.
В один день оба сидели на скамейке под лиственницей.
— А… — вдруг протянул Бруно, и Констан живо повернулся к нему. Но тот замолк и шаркнул ногой.