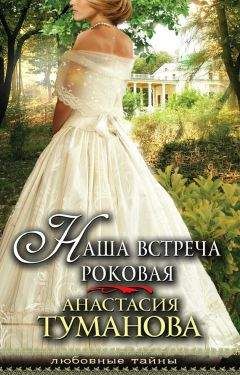Тетя Варя пожала плечами. Помолчав, спросила:
– Ты-то мне ничего не расскажешь, девочка?
Нина молча закрыла глаза. Когда она решилась их открыть, старой цыганки уже не было рядом. Гроза уходила, гром вяло перекатывался за Бутырской заставой, последняя вспышка молнии тускло, словно устало, осветила еще лежащие на скатерти письма.
– Диночка… – прошептала Нина, обхватывая плечи руками. – Диночка моя бедная, что же с тобой было? Что с тобой случилось? Что с тобой сделали, родная моя…
* * *
В июле 1920 года в Ялте нечем было дышать. Сверкающее море, слегка размытое на горизонте золотистой дымкой облаков, лежало под раскаленным добела солнцем неподвижно, словно зеркальное. Пронзительно кричали в горячем воздухе чайки; на рейде курсировали черными точками корабли. Вдоль берега бесстрашно болтались контрабандистские фелюги, скользили рыбачьи шаланды. По вечерам на набережной играл военный оркестр; на сиреневых от вечерних теней бульварах кружились пары, слышался женский смех, звон гитар. Работали рестораны, кафешантаны, кабаре, публичные дома; стояли открытыми стеклянные двери кондитерских. Изредка с гор приносило маленькие серые тучки, гремящие над городом короткой грозой. Но дождь быстро заканчивался, мгновенно высыхала листва каштанов и магнолий, город встряхивался – и снова жил спокойной, беспечной летней жизнью, в которой только и было, казалось, заботы – как избавить себя от зноя. Совсем рядом, на Кубани, возле Дона, гремели бои. Добровольческая армия отступала шаг за шагом, уже миновала страшная, тяжелая, бестолковая эвакуация из Новороссийска, уже прошел восторг после первых врангелевских побед. Но здесь, в этом золотом, солнечном, голубом раю с прозрачными ливнями, ласковым морем и теплыми, долгими, пахнущими миртом вечерами, казалось все это так далеко, так нереально… Заполнившие город солдаты выглядели беспечными; офицеры квартировали в богатых домах Ялты, отчаянно флиртовали с барышнями, танцевали на балах. Каждый день справлялись свадьбы, каждый день от церквей разъезжались нарядные пролетки, а иногда даже автомобили со счастливыми новобрачными. Еще ни в одном сезоне в Ялте не игралось столько свадеб: и невестам и женихам, несмотря на всю безмятежность летней природы, на отдаленность боев, было ясно, что нужно торопиться.
Одна из коротких июльских гроз только что отгремела над набережной, разогнав прохожих и оставив на мостовой обширные лужи, высыхающие прямо на глазах. В посвежевшем воздухе парило; сильнее запахло отцветающей магнолией и розами. Короткий дождик еще брызгал, золотясь крохотными искорками в лучах выглянувшего солнца. По чистому перламутру неба бежали, словно торопясь вдогонку за уплывающей тучей, несколько веселых лохматых облачков. За ними, стоя прямо под дождем и запрокинув голову, наблюдал молодой человек, почти мальчик, в форме пехотного поручика, невысокий, загорелый, с рукой на перевязи. На его болезненном лице застыла задумчивая улыбка; казалось, он не замечал бегущих по лицу капель.
– Вересов, вы с ума сошли? – окликнули его из-под навеса, и поручик, вздрогнув, обернулся с виноватой улыбкой.
– Что вам, Сокольский?
– Мне – ничего, а вот вы положительно рехнулись! – сварливо повторил брюнет с сумрачным, некрасивым лицом, которое портил еще больше длинный шрам наискось. – Сестрички в госпитале измучились с вашей чахоткой, только-только все начало налаживаться, а вы, изволите видеть, вышли пастись под дождем! Экая пастораль! Сегодня же, ей-богу, нажалуюсь доктору!
– Не губите… – с грустной улыбкой отмахнулся Вересов, возвращаясь под навес веранды и садясь за стол рядом с товарищами. – Иван Эдуардович – натура грозная, ему бы кавалерией командовать, а не госпитальными барышнями… И потом – какой это, с вашего позволения, дождь? Знаете ли, после кубанских дорог в марте месяце… это просто горячий душ! Помните?
– Мне ли не помнить… – криво усмехнулся Сокольский.
Вересов снова выглянул из-под навеса, посмотрел на убегающую за горизонт вереницу облачков. Вздохнув, продекламировал:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?..
– Господи, Миша, вы еще помните какие-то стихи?.. – без улыбки удивился Сокольский.
Вересов вздохнул:
– Последнюю строфу, вот жалость, забыл… Вам не кажется, что это о нас?
– Мне многое кажется. Только не вижу смысла рассуждать об этом, – отрезал Сокольский. Его зеленоватые, холодные глаза потемнели. – Мне эти тучки-цветочки и контрдансы на набережной по вечерам уже осточертели! Я на следующей неделе возвращаюсь в полк… и пошло все к чертовой матери!
Он нервным движением нашарил в кармане портсигар, неловко открыл его, выронил – и папиросы рассыпались по дощатому полу веранды. Сокольский выругался коротким, грязным словом, резко отвернулся. Сидящий рядом невысокий офицер лет сорока пяти с погонами полковника, с сильной сединой в волосах неодобрительно взглянул на него, но промолчал.
Вересов растерянно посмотрел на товарища. Тихо спросил:
– Что вы вздумали, Сокольский, голубчик? Как это возможно – в полк? После вашего-то ранения? Вас до сих пор боли мучают, третьего дня рана открывалась… Иван Эдуардович ни за что не позволит…
– Стало быть, придется обойтись без его дозволения, – резко ответил, не оборачиваясь, Сокольский. – И, видит бог, там само собой все пройдет. Мне Замайло земли с керосином замесит, перекрестит, намажет – и всех дел… Под Яссами только этим и спасались… Я не могу здесь дышать, поручик, поймите! От этой морской стихии, будь она проклята, меня уже тошнит! Там, в степи, по крайней мере, что-то происходит. В конце концов мы все подохнем, этого, видно, не избежать, но… но там все случится в бою и, надеюсь, без долгих проволочек. Я, к своему великому сожалению, еще верую в Бога. И не горю желанием пускать себе пулю в голову.
– Сережа, прекратите это немедленно, – отрывисто сказал, по-прежнему глядя в море, седой полковник. Нагнувшись, он поднял полупустой портсигар Сокольского и бросил его на скатерть. – В армии и так довольно психопатов, не хватало еще, чтобы лучшие офицеры Дроздовской дивизии поддавались бабьей истерике! А все эта ваша серебряная пыль… Вы не имеете права так распускаться! И тем более – в присутствии мальчика семнадцати лет, который и без того…
– Иван Георгиевич!!! – возмутился Вересов, и упомянутые семнадцать лет немедленно проявились во всей полноте на его вспыхнувшем, как заря, детском лице. – Я, кажется, никогда не давал повода!..