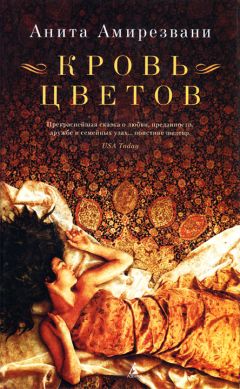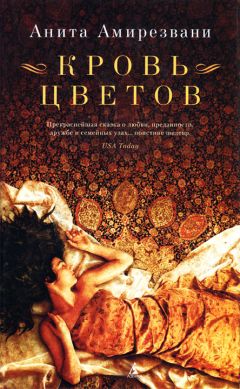К тому времени Азаде стала известна и как целительница. Каждый день пилигримы сходились к каменной башне испросить благословения и дара здоровья. Среди них оказался и деверь Азаде. Когда ее муж вернулся из паломничества, он увидел, что конечности брата парализованы, и предложил отвезти его к каменной башне в поисках исцеления.
Другим просителем был слуга бедуина. Он загадочным образом ослеп, и бедуин пообещал сопроводить его к святому из башни. Четверо встретились по пути и решили путешествовать вместе.
Само собой, Азаде узнала их, как только они приблизились, но ее в мужской одежде им было не узнать. Когда мужчины попросили о помощи в излечении их недугов, она потребовала, чтобы сперва они покаялись в грехах. «Откройте все, что есть скрытого в ваших сердцах, — сказала она им, — ибо только тогда будете исцелены. Если оставите что-то скрытым, без сомнения, останетесь больными».
Брат ее мужа, багровея от стыда, признался, как вожделел к женщине, ложно обвинил ее в неверности и оставил на смерть. Слуга признался, как он тоже пожелал женщину и разбил голову младенцу, когда она не уступила. Лишь только была произнесена правда, Азаде вознесла молитву Господу, освободившему больных от недугов. Теперь ее деверь мог ходить, а слуга — видеть. Каждый взмолился о прощении за свои подлости, и Азаде даровала им прощение.
Затем она открылась своему супругу, и любовь, в которой другим так долго отказывали, излилась на него потоком. Азаде назначила своего мужа шахом, а бедуина — его визирем, и справедливость навеки воцарилась в этой земле.
Мальчики и Давуд уснули. Малеке поблагодарила матушку за рассказ и свернулась подле мужа. Остались бодрствовать лишь мы с матушкой.
— Какая сказка! — вздохнула я. — У Азаде сердце было, наверное, как у всеблагой Фатеме, если прощало всех, кто сделал ей столько дурного.
— Так будет правильно, — нежно сказала матушка, глядя мне в глаза.
Я глянула в ответ и, когда увидела, сколько в них любви, неожиданно поняла, что она хотела сказать. Она простила меня, причинившую ей столько боли. Мы тихо посидели вдвоем, и впервые за то время, что прошло после ухода из дома Гостахама и Гордийе, я чувствовала мир в сердце.
Мы с матушкой придвинулись ближе друг к другу, сидя бок о бок, так что могли говорить, не будя других. Когда «корей» погас, мы поставили рядом светильник и накрылись одеялом. Ветер завывал снаружи, снег превратился в леденящий дождь. Капля расплылась темным пятном на моем синем хлопковом халате, и я подвинулась в сторону от протечки. Несмотря на холод, мы не спали и разговаривали обо всем, что пережили в последние годы: о злой комете, о безвременной смерти отца, о странном доме Гостахама, о чуде, которым был Исфахан. Поначалу говорила только матушка, но вскоре я тоже стала вспоминать. Слова лились из меня, и чувствовалось, будто я оказалась в некоем святом храме, шепча святому на ухо правду моего сердца.
Матушка внимательно слушала, так же как я когда-то слушала ее сказки. Иногда то, что я говорила, изумляло ее, но взгляд ее оставался нежным, и я словно вырастала перед нею из девочки в женщину. Когда снаружи запели петухи, возвещая рассвет, договорила и я.
Матушка сказала:
— Дочь моя, теперь твое сердце чисто, как бутон, ибо ты рассказала правду.
Она задула светильник и завернулась в одеяла, смежив глаза. Блаженно усталая, зевая, я свернулась рядом с нею. Дыхание матушки вскоре стало ровным и тихим, а я вспоминала о комете и предсказании Хадж Али и как жестоко оно отразилось на мне. С чего я вечно должна жить по зловещему пророчеству, теперь, когда год кометы наконец прошел? Казалось, будто сама Азаде побыла под таким же дурным предзнаменованием, ибо удача ее умирала, но затем вернулась, чтобы вспыхнуть ярче, чем прежде. Даже муки ее оказались не напрасными, ибо сердце ее выросло настолько, что смогло простить тех, кто принес ей беду.
Я не могла угадать, что сулит мне судьба, но знала, что изо всех сил буду создавать лучшую жизнь, как это делала Азаде. Я думала о своем отце, и его любовь струилась во мне, точно река. Когда я начала засыпать, я словно услышала, как он советует мне. Он говорил: «Надейся на Аллаха, но верблюда всегда привязывай»
Зима наконец почти закончилась. Погода стала мягче, принеся тихие дожди и первые теплые дни года. Приближался Новый год, и мы готовились к его празднованию. Малеке, матушка и я вымыли нашу крохотную комнату, подмели двор, выстирали постели и вытряхнули все наши пожитки; потом отскребли свою рваную одежду и самих себя, чтобы приветствовать весну в чистоте и надежде.
Первый день нового года мы отметили роскошной трапезой из цыпленка с зеленью и повели Салмана и Шахвали поиграть у реки. Мальчишки залезли в воду и просто опьянели от радости, потому что очень давно не радовались безо всяких забот. Когда они наигрались, мы уселись в чайхане под мостом Тридцати Трех Арок и освежились горячим чаем и сластями с мягкими, нежными финиками. Река словно танцевала у наших ног, обдавая нас время от времени живительными брызгами. Впервые мы все, включая Давуда, чувствовали себя настолько хорошо, чтобы выйти вместе как одна семья.
Хотя весь Исфахан еще праздновал конец второй недели нового года, на следующий день Малеке, Катайун и я принялись за кипарисовый ковер для Гостахама. Трудно было работать как следует в маленьком дворике, где под ногами путалось множество детей, то и дело приходили и уходили соседи, особенно в праздники. Но мы трудились во всей этой суматохе, ибо ничто не могло сравниться поважности с тем, чтобы соткать ковер на удивление Гостахаму.
Вскоре после завершения праздников Гостахам впервые пришел посмотреть нашу работу. Когда он появился, с видом совершенно царским, в халате ярко-синего шелка поверх ярко-желтого кафтана и в лиловом тюрбане, я просто выпрыгнула из-за станка, чтобы приветствовать его. Малеке и Катайун обрушили на него поток благодарностей за благодеяние, но уважительно не поднимали глаз от станка.
Гостахам с недоверием оглядел наш двор. Грязный ребенок с сопливым носом шлепнулся на пороге дома, потрясенный Гостахамовым присутствием, а второй, в лохмотьях, бежал за родителями. Было уже тепло, и во дворе стояла едкая вонь немытых ног, поднимавшаяся от обуви, сваленной у дверей. Матушка пригласила Гостахама сесть и принять пиалу с чаем, но, когда запах подобрался к ноздрям, выражение с трудом скрываемого отвращения засветилось на его лице, и он ответил, что спешит. К жидкому чаю, который тем не менее поставили рядом, и к черствому, но лакомому даже под тучей мух шафрановому печенью он даже не притронулся.