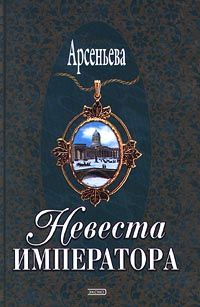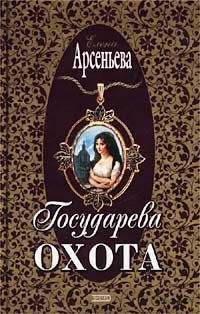«Я построю ее! – радостно стукнуло сердце. – Я успею ее построить!»
Он вздохнул с таким облегчением, так глубоко, что новая волна ряби от его дыхания прошла по воде, и в темной глубине открылось Меншикову другое зрелище. Он увидел свою младшую дочь, несколько повзрослевшую, но еще в полном расцвете своей девичьей красоты (при этом Меншиков отчего-то знал доподлинно, что с сего дня минуло два года с небольшим), которая следовала в церковь (ту самую, покойным отцом строенную!) и заметила в окне убогой хижины незнакомого мужика, который замахал ей и выбежал на крыльцо. Бог ты мой!.. Да ведь это был не кто иной, как Алексей Григорьич Долгоруков! Не веря своим ушам, выслушал Александр Данилыч его рассказ о смерти Петра II и страшных гонениях на Долгоруковых – и был изумлен собою, ибо должен был испытывать злорадство при виде скорби врага своего, а испытывал лишь глубокую, неизбывную печаль; чудилось ему, что он сам повествует о своих злоключениях:
«Нас везли сюда жестокие гонители и враги наши, как величайших злодеев, – лишили нас даже самого необходимого в жизни. Жена моя умерла дорогой, дочь моя умирает и, конечно, не избегнет смерти. Но я намерен вернуться и отомстить…»
Горький смешок сорвался с уст Александра Данилыча и перешел в сдавленное рыдание, ибо тотчас же открылось ему, что не дождется отмщения его супостат… жалкий враг его. Александра с Александрою узрел Меншиков в Петербурге, в богатстве и довольстве, а Долгоруковых…
Увидел он красавицу Екатерину Долгорукову в столь строгом монастырском затворе, что даже сухой хлеб и воду подавали ей сквозь малое оконушко в дверях. Увидел он и Алексея Григорьича, лежащего в гробу и отпеваемого в той самой церкви, которую выстроил сгубленный им Алексашка. И еще одного ярого гонителя своего, Василия Лукича, узрел Меншиков: на плахе, обезглавленного… А рядом с ним, на Скудельничьем поле, в версте от Новгорода, был разрублен еще живым начетверо красавец, весельчак, баловень судьбы и царский фаворит Ванька Долгоруков. И при виде его окровавленного, смертной росою окропленного чела понял Александр Данилыч, почему льются из его глаз слезы жалости, а не злорадства: все они равно были скованы цепями грехов своих, и каждому воздалось по заслугам, но без справедливости, ибо неправедно возмездие всякое, кроме божьего, а оно – слепо и, увы, разит мимо… Глаза его тоже ослепли от слез, сердце надрывалось от боли – дорогую плату вносим мы за предвидение, ибо истина бесценна! – и, словно в награду, открылась ему еще одна картина, которая пролила елей на его истерзанную душу, и зарубцевала раны сердца, и укрепила его, и дала силы смотреть на мир, где он пока еще жил, и говорить с теми, кто еще был рядом, и даже… лукавить, ибо именно лукавство было первейшим свойством натуры Алексашки Меншикова.
Он медленно приблизился к Маше, которую князь Федор боялся выпустить из объятий хотя бы на мгновение, взглянул в ее прекрасные, влажные, виноватые от счастья глаза – и преклонил пред нею колени. Суровым жестом остановил этих ненаглядных чад своих, смущенно бросившихся поднимать его, и вымолвил:
– Теперь ведаю – вы уйдете отсюда вдвоем. О нас не беспокойтесь: два года, что остались до помилования, Александр с Александрою как-нибудь вытерпят… «Мой же век измерен», – этого он не сказал, только подумал, и продолжал: – Ежели хочешь ты, чтобы жил я здесь спокойно, не терзаясь совестью («Последние дни», – добавил он мысленно), молю тебя как о величайшей милости… – Он перевел дыхание и произнес прерывисто, словно задыхался от слез: – Молю тебя нарушить свой обет. А я отмолю, отмолю твой грех… я построю церковь, и господь простит тебе, что ради отца ты согрешила. Простит, я знаю!
Он склонил голову, чтобы не видеть исступленной любви в Машиных глазах – это лишало его сил, а они еще пригодятся.
– Батюшка, клянусь… да я для тебя хоть на плаху… что там грех… – едва смогла пролепетать Маша, и камень свалился с плеч отца.
Меншиков вскочил, благодаря бога, что глаза Машины сейчас отуманены слезами и она не видит молниеносно-быстрых взглядов, которыми обменялись ее муж и отец. Взор Федора выражал преклонение и печаль, ибо он многое способен был видеть духовными очами и слышал даже неизреченное, ну а Меншиков приказал ему молчать и слепо подчиняться.
– Но как же? – снова забеспокоилась Маша, внезапно осознав, какие последствия повлечет за собой ее согласие исполнить волю отца. – Брат с сестрой не простят мне вовеки свободы, гнев великий я на тебя навлеку. Мало, если будет всего лишь погоня за нами да суровое дознание, – как проведают про мое бегство в столице, не замедлят сжить тебя со свету!
– Во всем ты права, моя разумница! – Рука отца легонько, ласково подергала ее за косу, как в детстве. – И что брат с сестрой – твои завистники, ненавистники твои, и что кары ждут нас немилостивые. Но я знаю, что должно сделать, дабы целы были овцы и сыты все лютые волки. – Он помолчал, хитро глянул в настороженное лицо князя Федора, потом в Машино – покорное, детское, милое – и сказал, как выстрелил: – Ты для сего должна умереть!
Гробы вы, гробы!
Предвечные наши домы!
Сколько нам ни жити,
Вас не миновати!
Тела наши пойдут
Во сырую землю —
Земле на преданье,
Червям на точенье.
Души наши пойдут
По своим по местам…
Баламучиха приостановилась перевести дыхание и с великим трудом удержала на сморщенном лице скорбное выражение, которое так и норовило, словно тяжелая, плохо закрепленная маска, свалиться под ноги.
Все вышло по ее посулам! Говорила она, что этой дерзкой девке недолго топтать травушку-муравушку – так и содеялось. И безразлично, сгубила ее кручина зеленая, желтая, черная ли – сгубила-таки, и весь сказ!
Противоречивые чувства раздирали старушечью душу. Конечно, первое, что подумала Баламучиха, прослышав о внезапной кончине Марии Меншиковой, – девка руки на себя наложила. Однако никаких признаков сего не нашли ни воевода, ни причт [92]. А то каково поторжествовала бы старая знахарка, когда сволокли б сию гордячку на божедомки, свалили в жальник… И уж при ближайшем неурожае, засухе, наводнении или другом бедствии Баламучиха позаботилась бы, чтобы именно ее мертвое тело растревоженные березовцы выгребли из могилы и бросили на растерзание хищным птицам и зверью, ибо вообще погребение заложного покойника [93] неугодно небесам. Но, увы, на сию возможность ничто не указывало. Улеглась девка вечером спать, стеная и охая, а наутро домашние глядь – она уже и закоченела… Ну что ж, умерла так умерла. Милосерд оказался к ней господь сверх всякой меры.