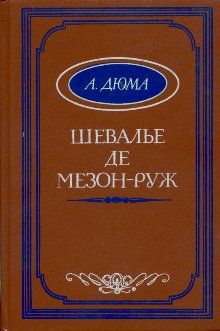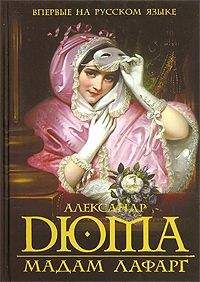– Mierda![73] – прорычал он и грохнул кулаком по рулю.
Это зрелище показалось Еве настолько комичным, что она прикрыла рот ладонью, но от резкого движения что-то сместилось у нее внутри. Боль была такой внезапной и ошеломительной, что она согнулась пополам и захрипела. Пикассо повернулся назад и едва не закричал… а потом увидел лицо Евы.
– Нам лучше найти госпиталь, Пабло, – только и смогла вымолвить она.
Позже, когда наступила зима, Ева изо всех сил пыталась вспомнить, что произошло в тот ужасный день. Пока что прошлое возвращалось лишь отдельными фрагментами. Молодой солдат, мчавшийся на автомобиле по улицам Авиньона к больнице Святой Марты, в то время когда она корчилась от боли на заднем сиденье. Долгая поездка в Париж в трясущемся вагоне, когда она лежала на руках у Пикассо, одурманенная опиумом, приглушавшим восприятие действительности. Потом улыбка Пикассо. Темно-вишневый автомобиль. Солдаты, марширующие по мостовой, маленький мальчик, машущий ей вслед… И их уютный дом с голубыми ставнями, который она успела полюбить.
Врач в авиньонской больнице подтвердил то, о чем Ева уже догадывалась. Появились метастазы, и хирургическое удаление обеих грудей было уже не предметом выбора, а единственной возможностью продлить ей жизнь.
Пикассо настоял на том, чтобы операция прошла в Париже под руководством лучших специалистов. По его словам, деньги не представляли проблемы. Гертруда доверяла доктору Руссо, поэтому Пикассо остановил свой выбор на нем. Когда в городе выпал первый снег, Ева покорно согласилась на операцию. Она больше не могла воевать с собственным телом, и у нее не осталось сил возражать Пикассо, несмотря на страх, что после ужасного события их отношения больше никогда не станут прежними. Всю свою жизнь он вдохновлялся женской красотой. Теперь она превратится в черепок разбитой вазы из китайского фарфора – в жалкое подобие былого совершенства.
В конце концов Пикассо будет вынужден найти ей замену в своей постели: сначала она заменила Фернанду, а теперь какая-то другая женщина заменит ее. Естественно, он не захочет причинять ей боль. Он внушит себе, что она ни о чем не догадается, и будет прилагать огромные усилия, чтобы скрыть новый роман, – точно так же, как он сначала скрывал ее существование от своих друзей. Возможно, сейчас он даже не вполне сознает, в какое отчаяние повергнут его мысли о болезни и смерти. Ну, что ж, хотя бы на короткое время ей удалось изменить его и подарить ему вдохновение. Ева гордилась этим, как и своим вкладом в создание некоторых картин Пикассо.
Ее разум, уставший от бесконечной боли и затуманенный обезболивающими средствами, подсказывал, что прошло много времени, прежде чем она смогла вспомнить факты, а не обрывки снов, когда, наконец, открыла глаза. Впервые она почувствовала, что вполне воспринимает окружающее, в парижской квартире на улице Шольшер. Затерявшись под одеялами на огромной кровати из красного дерева, сначала она увидела большую фреску, обрамленную в раму и прислоненную к стене спальни. Каждый раз, когда она смотрела на нее, то вспоминала Сорг, и эти воспоминания были сладостно-горькими. Она всегда будет тосковать по этому дому и счастливым дням, проведенным вместе с Пикассо.
В парижской квартире стояла тишина. Слава богу, Пикассо наконец ушел. Он отчаянно нуждался в перемене обстановки. Ева помнила, что он целыми днями не отходил от нее. Она слышала его голос, настойчиво повторявший, что он не должен покидать ее даже ради работы. Ничто другое не значит для него так много, как она, повторял он. Теперь она слышала лишь свист ветра в ветвях деревьев за высокими окнами.
Ева с трудом противилась желанию снова заснуть. Она огляделась вокруг и увидела огонь в камине и картину Ma jolie, которую он выставил для нее на каминной полке. Спальня была уставлена множеством хрустальных ваз с цветами, и они походили на маленькие вспышки живых красок на фоне серых одеял, повязок и пузырьков с лекарствами. Все цветы были доставлены по указанию Пикассо, кроме оранжерейных роз, это был подарок Гертруды и Алисы. Они были единственными друзьями, знавшими об операции. Ева взяла с них клятву не рассказывать об этом никому другому. Горе и жалость в глаза Пикассо и без того были для нее тяжким бременем. «Скажите всем, что у меня воспаление легких или новый приступ бронхита, – попросила она. – Я просто не смогу вынести чужое сочувствие. Скажите что угодно, только не правду!»
Пикассо твердо придерживался занятой позиции. Он не отходил от ее постели. Дни превращались в недели. Он мало работал и еще меньше спал. Он беседовал с врачами. Он предлагал увеличить дозы обезболивающих препаратов. Часто, особенно с закрытыми глазами, она слышала в его голосе неизбывное страдание. Этот звук преследовал ее.
«Как странно», – подумала Ева, глядя из окна на деревья, за которыми угадывались очертания кладбища Монпарнас. Только сейчас она оценила горькую иронию и уместность этого вида.
Мрачная мысль удивила ее. Вместо тоски и опустошенности Ева ощущала в происходящем оттенок черного юмора. О чем думают другие умирающие люди? По крайней мере, она была рада, что может оставить эти мысли при себе. Во внутреннем уединении ей не нужно было соглашаться с упрямым оптимизмом Пикассо и с надеждой на благополучный исход, не требующий смирения перед неизбежностью.
Париж по-прежнему сильно отличался от города, из которого они уехали в Авиньон. Казалось, изменения произошли целую вечность назад. Оживленные кафе на Монпарнасе, которые она так любила, теперь были похожи на тусклые пустые раковины, куда почти никто не заглядывал. Над городом то и дело раздавались сирены воздушной тревоги, и веселый звон бокалов был давно забыт, теперь главенствовал перестук колес войны, которой не было видно конца.
Самое худшее как будто отступило на задний план, но приметы повседневного мира никуда не исчезли.
Теперь так много мужчин носили военные мундиры, что Пикассо неизбежно выделялся на улице среди прохожих. Женщины, чьи мужья и сыновья ушли на войну, смотрели на него с презрением. В их глазах он был очередным молодым человеком, которому каким-то образом удалось избежать отправки на фронт. Они бросали в него белые перья, как и в любого другого юношу, который не посчитал своим долгом защищать Францию. Белое перо обозначало трусость.
Политическая ситуация сказалась на его известности и продажах его картин. Произведения Пикассо стоимостью в тысячи франков оставались в студии Канвейлера, поскольку тот уехал за границу и не мог вернуться во Францию. Его галерея была захвачена правительством, а все произведения арестованы, так что их нельзя было продать. Канвейлер задолжал Пикассо целое состояния, но богатство, как и счастье, бывает изменчивым и мимолетным, думала Ева. Жизнь теперь определенно казалась ей такой.