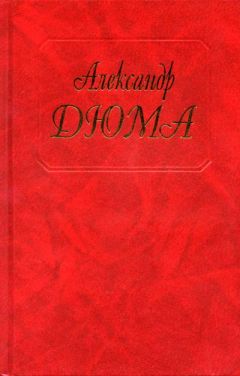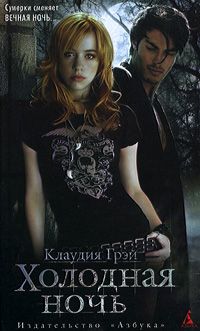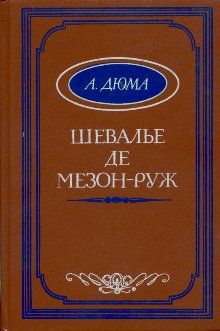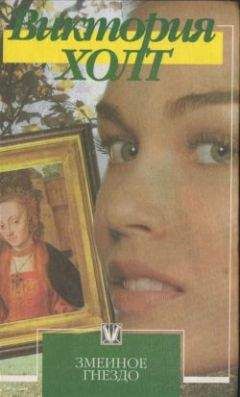— И вы не спасли хотя бы Женевьеву, вашу сестру?
— Как я мог? Ее отделяла от меня железная решетка. Ах, если бы вы были там, если бы могли соединить ваши силы с моими, проклятая решетка поддалась бы и мы спасли бы их обеих.
«Женевьева! Женевьева!» — простонал Морис.
Потом, взглянув на Мезон-Ружа с выражением неизъяснимой ярости, спросил:
— А Диксмер? Что стало с ним?
— Не знаю. Мы спаслись порознь.
— О! — шептал Морис, стиснув зубы, — если я когда-нибудь его встречу…
— Да, я понимаю. Но для Женевьевы еще не все потеряно, — сказал Мезон-Руж, — тогда как здесь, тогда как для королевы… О, послушайте, Морис, вы сердечный человек, вы могущественны; у вас есть друзья… О, прошу вас, как просят Бога… помогите мне спасти королеву!
— Вы еще об этом думаете?
— Морис, Женевьева умоляет вас моими устами.
— Не произносите этого имени, сударь. Кто знает, может, и вы, как Диксмер, тоже пожертвовали бы бедной женщиной?
— Сударь, — с гордостью ответил шевалье, — когда я ставлю перед собой цель, то умею жертвовать только собой.
Морис хотел что-то сказать, но открылась дверь совещательной комнаты.
— Тише, сударь, — остановил его шевалье, — тише. Судьи возвращаются.
И Морис почувствовал, как дрожит рука, которую Мезон-Руж, бледный и шатающийся, положил на его руку.
— О! — прошептал шевалье. — О! У меня останавливается сердце.
— Мужайтесь и держитесь или вы погибли! — ответил Морис.
Трибунал действительно вернулся, и весть о его возвращении распространилась в коридорах и галереях.
Толпа опять ринулась в зал, и, кажется, даже лампы в этот решающий, торжественный момент сами собой ожили и засветились ярче.
Привели королеву. Она держалась прямо, твердо, надменно; взгляд ее был неподвижен, губы сжаты.
Ей зачитали решение суда, приговаривающее ее к смертной казни.
Она выслушала приговор, не побледнев, не нахмурившись, ни один мускул на лице не выдал ее волнения.
Повернувшись к шевалье, она послала ему долгий и выразительный взгляд, словно хотела поблагодарить этого человека, кого всегда воспринимала как олицетворение преданности; затем, опираясь на руку жандармского офицера, командовавшего вооруженной охраной, спокойная, полная достоинства, покинула зал трибунала.
Морис глубоко вздохнул.
— Слава Богу! — сказал он. — В ее показаниях нет ничего, что скомпрометировало бы Женевьеву. Еще есть надежда.
— Слава Богу! — в свою очередь прошептал шевалье де Мезон-Руж. — Все кончено, борьба завершилась. У меня не было сил идти дальше.
— Мужайтесь, сударь, — тихо произнес Морис.
— Постараюсь, сударь, — отозвался шевалье.
Затем, пожав друг другу руки, они покинули зал через разные выходы.
Королеву увели в Консьержери. Пробило четыре на больших часах, когда она вернулась туда.
Перейдя Новый мост, Морис попал в объятия Лорена.
— Стой! — сказал он, — хода нет!
— Почему?
— Прежде всего, куда ты направляешься?
— К себе. Именно теперь я могу вернуться: я знаю, что с ней произошло.
— Тем лучше; но домой ты не пойдешь.
— Причина?
— Причина проста: два часа назад приходили жандармы, чтобы тебя арестовать.
— Ах так! — воскликнул Морис. — Тем более следует вернуться.
— С ума сошел? А Женевьева?
— Да, ты прав. И куда же мы пойдем?
— Ко мне, черт возьми!
— Но я погублю тебя.
— Тем более надо идти. Итак, в путь!
И он увлек Мориса за собой.
Из трибунала королеву отвели назад, в Консьержери.
Вернувшись в камеру, она взяла ножницы и обрезала свои длинные прекрасные волосы, ставшие еще прекраснее из-за отсутствия пудры, отмененной год назад. Она завернула волосы в бумагу, написав сверху: «Разделить между моей дочерью и сыном».
Затем она села, а вернее, упала на стул, разбитая усталостью (допрос длился восемнадцать часов), и уснула.
В семь часов ее внезапно разбудил шум отодвигаемой ширмы; она повернулась и увидела совсем незнакомого человека.
— Что хотят от меня? — спросила она.
Человек подошел к ней и поклонился так же вежливо, как если бы она по-прежнему была королевой.
— Меня зовут Сансон, — сказал он.
Королева слегка вздрогнула и поднялась. Одно это имя говорило больше, чем длинная речь.
— Вы пришли очень рано, сударь, — сказала она. — Не могли бы вы явиться немного позже?
— Нет, сударыня, — возразил Сансон. — У меня приказ.
Ответив, он сделал еще один шаг в сторону королевы.
Все в этом человеке сейчас было выразительным и ужасным.
— А, я понимаю, — произнесла узница, — вы хотите обрезать мне волосы?
— Это необходимо, сударыня, — ответил палач.
— Я знала об этом, сударь, — сказала королева, — и мне захотелось избавить вас от такого труда. Мои волосы здесь, на столе.
Сансон проследил за движением руки королевы.
— Только, — продолжала она, — я бы желала, чтобы сегодня вечером они были переданы моим детям.
— Сударыня, — ответил Сансон, — это не моя забота.
— Однако я думала…
— Мне принадлежит, — продолжал палач, — только то, что остается после… людей… приговоренных… их одежда, их драгоценности, да и то, если они их формально отдают мне. Иначе все это идет в Сальпетриер и распределяется между бедняками в больницах. Так предписывает постановление Комитета общественного спасения.
— Но, в конце концов, сударь, — настаивала Мария Антуанетта, — могу ли я рассчитывать, что эти волосы вручат моим детям?
Сансон молчал.
— Я обещаю постараться, — сказал Жильбер.
Узница бросила на жандарма взгляд, полный невыразимой признательности.
— Я пришел, — объяснил Сансон, — чтобы обрезать вам волосы. Поскольку эта работа уже сделана, я могу, если желаете, ненадолго оставить вас одну.
— Прошу вас об этом, сударь, — сказала королева, — мне нужно сосредоточиться и помолиться.
Сансон поклонился и вышел.
Королева осталась одна: Жильбер высунул голову из-за ширмы лишь для того, чтобы произнести приведенные нами слова.
В то время как приговоренная преклонила колени на стул (он был ниже других и служил ей скамеечкой для молитвы), другая сцена, не менее трагическая, чем та, о которой мы рассказали, происходила в доме священника маленькой церкви Сен-Ландри в Сите.
Местный кюре только что поднялся, а старая экономка накрывала стол для скромного завтрака, как вдруг в дверь дома громко постучали.