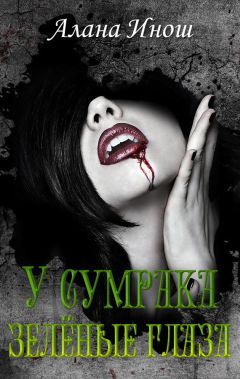Девушкам, которые ей нравились, она не смела открывать своих чувств – из опасения быть отвергнутой, непонятой, да ещё и «спалиться» при этом. Открыто говорить о своих предпочтениях она не могла. Быть может, по её вечному мальчишескому виду кто-то и догадывался об истинном положении вещей, но внешность обманчива: в университете она видела похожих на неё девушек, которые, вопреки видимому отрицанию женственности в облике, тем не менее, встречались с парнями. Она убедилась: внешность – ещё не всё.
Хоть ей самой это казалось невероятным, но аленький цветочек её мечты получил подпитку от девушки с редким именем Ростислава. Началось всё просто – в библиотеке. Где-то в уголке души Художницы лежала сухая кучка лепестков-воспоминаний: курсовая, стопка книг, потерянный гардеробный номерок. Длинные тёмные волосы, красивые шелковистые брови, столик в кафе. Ростиславу не смущал «глухой акцент» Художницы, она на удивление хорошо её понимала, хотя сама проблем со слухом не имела. А потом девушка призналась, что сперва приняла Художницу за парня. Художница обиделась было, но Ростислава произнесла ключевые слова, которые всё перевернули: «Твой пол значения не имеет, ты мне нравишься любой». Ростислава была тоже из неполной семьи, жила с матерью, работавшей на двух работах.
Продолжилось всё ещё проще: влажный мартовский снег, на нём – следы высоких шнурованных ботинок Художницы, а рядом – изящные следы сапожек Ростиславы. Поход в цирк, разочарование. «Мне всегда было жаль несчастных цирковых животных». Попытка спасти неудачный вечер и окончательная его гибель на творческой встрече какой-то поэтессы в областной библиотеке. А потом – неожиданное возрождение на обледенелой крыше с пакетом вина, баночкой черешневого джема и жаркой сосисок на костре, разведённом в ржавом тазике. Там же случился и первый поцелуй. Нелепое и странное сочетание – джем и сосиски, но странные вещи всегда запоминаются лучше правильных, но обычных.
Потом был карандашный портрет Ростиславы формата А3, потом ещё один и ещё… Много портретов разных размеров, были среди них удачные и не очень. Вздумав побыть обнажённой натурщицей, Ростислава пригласила Художницу к себе. Разделась… Сначала Художница переносила очертания её тела на бумагу, а потом захотела прикоснуться. Изучение на ощупь перешло в их первый, неуклюжий и неумелый секс. Обе до этого лишь читали о том, «как это делается».
Конец был тоже прост. Вокзал, серое небо, ветер и зелёные вагоны, обещание писать на электронную почту ежедневно, пахнущие осенью полуоблетевшие кусты и рвота. То ли Художница чем-то отравилась в тот день, то ли разлука так на неё действовала, но её вывернуло наизнанку. На желудок давило гадкое чувство, что от Ростиславы она больше не получит весточки.
Сейчас она сидела за компьютером, подперев рукой голову, остриженную намного короче, чем тогда, но с гораздо более наполненным сердцем. Безумная мысль вдруг выпрыгнула из-за угла: а не приснилась ли всё-таки ей Надин? Впрочем, пирожки, которые та испекла, казались вполне реальными и на вкус, и на запах, и на ощупь. Вода в стареньком закопчённом чайнике вскипела незаметно, и Художница с грустью заварила себе кружку смородинового лета.
Вчерашнее волшебство не повторилось: в картину уже невозможно было погрузить пальцы, как в воду, но поверхность её по-прежнему оставалась жутковато матовой, под каким углом ни глянь. Она выглядела открытым окном в живой мир: казалось, ничего не стоило протиснуться в раму, выйти на берег и забраться в лодку.
Погода начала портиться: когда Художница выехала в город, под порывами ветра к лицу лип мелкий, скучный и холодный дождик. Пришлось расправить джинсы и надеть ветровку. Согревала только мысль, что в папке на плече – окно в солнечный, ласковый вечер, который подарит матери успокоение и вернёт сон. В том, что картина подействует, Художница не сомневалась. Такое чудо не могло не подействовать.
Она слегка нервничала, поднимаясь по лестнице дома, в котором родилась и выросла: склизким червём в душе копошилась неуверенность. Нажимая на кнопку звонка, она думала: а если мать сейчас откроет дверь и пошатнётся, дыша перегаром? Это была не первая её попытка завязать, все прошлые с треском провалились. Кто даст гарантию, что сейчас будет удача?
– О… доча, – шевельнулись вялые губы матери, а взгляд, расфокусированный и мутный, равно как и запах, долетевший до Художницы, сказал всё.
Сердце повисло в груди серым, холодным камнем. Опять… Впрочем, как всегда.
– Я только чтобы поспать хоть чуток, – вяло и жалобно оправдывалась мать. – Думала, может, забудусь, расслаблюсь…
– Ты понимаешь, что именно из-за алкоголя у тебя нарушение сна?! – потеряв остатки терпения, рассвирепела Художница. – И пытаться избавиться с его помощью от бессонницы – всё равно что лечить ожог огнём. Ты хоть немного соображаешь, что делаешь?
– Оль… Я не буду больше, всё, баста! – клятвенно заверяла мать с хмельной горячностью. – Я уже поняла, что так ни хрена не выйдет… – И спросила, заметив папку с картиной у Художницы на плече: – А это что?
– Как – что? Забыла уже, что ли, о чём меня просила? – Художница достала картину и поставила на стул, прислонив к спинке.
Мать всплеснула руками.
– Ой, красота-то какая, Оль! Талантище ты у меня всё-таки… Слушай, ну, прямо всё в точности так, как мне виделось. И лодка такая, и камыши… А это что? – Мать прищурилась и нагнулась, чтобы получше рассмотреть, но пошатнулась. От падения спас только край стола. – Это что, стрекозки? Ага, они самые… Всё как живое, как настоящее! Ой, что ж это я, – спохватилась она, – даже чаю тебе не предложила…
Похвалы картине совсем не радовали, казались преувеличенными. Художница махнула рукой. Какой там чай, когда в груди висела хмурая безысходность, окутывая сердце пыльной мешковиной? Похоже, всё бесполезно… Дождь соглашался, покрывая оконное стекло серебристыми косыми штрихами.
– Нет, нет, давай-ка почаёвничаем, – настаивала мать с пьяненьким гостеприимством. – Давно мы с тобой не сидели за одним столом, всё как-то врозь…
За чашкой чая люди обычно о чём-то беседуют, но у них разговор не клеился. Вернее, говорила одна мать, жалуясь на жизнь, а Художница слушала. Ничего нового она не услышала – все те же сетования, повторы одних и тех же слов, навевающих чувство удушающей безнадёжности и каменной тоски. Она незаметно отвела взгляд, чтобы не видеть движения губ матери, заполнила голову золотым звоном и стала думать о Надин. Мать… А что мать? Пусть выговорится – может, на душе у неё станет легче. Человек ведь нуждается в том, чтобы его кто-то выслушал… Ну, или просто сыграл роль внимательного слушателя. Чай стыл, дождь штриховал окно, огромная старая ива тревожно колыхалась, а Художница думала о том, что не выдержит ещё одной ночи в пустом доме, без земного, летнего тепла Надин.