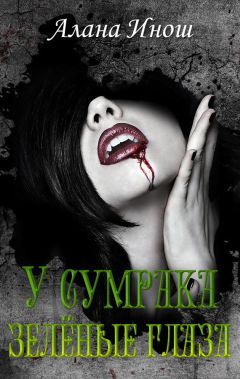Медовый свет коснулся сердца, а в лицо повеяло благодатной свежестью: это родные руки поставили на стол большую эмалированную миску с мытой земляникой. Крупные, ароматные ягоды поблёскивали капельками воды на красных боках и дышали прохладой. Рядом с земляникой лёг круглый домашний хлеб, обёрнутый кружевной салфеткой, а в довершение появилась чашка густой деревенской сметаны и сахарница.
Ещё тёплый, свежевыпеченный хлеб Любимая разломила руками: нож казался совершенно неуместным – острый, опасный предмет. Художница добавила в сметану сахар, окунула ягоду, подцепила ложечкой, отправила в рот и только после этого, наслаждаясь вкусом земляники со сметаной и хлебом, подняла взгляд на Любимую.
Нет, её возлюбленная не блистала ослепительной красотой, но было в ней что-то завораживающе-тёплое, светлое, колдовское. Русые волосы, уложенные в узел на затылке, горели ниточками золота в вечерних лучах солнца, в хитро и ласково прищуренных серовато-голубых глазах сразу таяла вся усталость Художницы, накопившаяся за день, а между улыбающихся полнокровных губ было зажато её сердце. Эта улыбка с озорными ямочками на щеках, чуть усталая, мудрая, матерински-нежная, путеводной звездой сияла над жизнью Художницы и являлась той движущей силой, благодаря которой она просыпалась каждое утро, с радостью предвкушая новый день. А ведь было время, когда она вставала по утрам, точно на казнь… Очень, очень давно, тысячу лет назад.
Утончённостью черт Любимая не отличалась – были они крупны, мягки и плавны, как и её движения. Лёгкое и тонкое льняное платье-сарафан подчёркивало все тугие округлости налитой, зрелой фигуры, а фартук с оборками и карманами оттенял мягкую хозяйственность. Простая, земная, домашняя, родная… Со вкусом земляники со сметаной.
Художница вдохнула добрый аромат хлеба – самого лучшего на свете, выпеченного любимыми руками. Чего ещё желать? Счастье достигнуто. Впрочем, нет: Любимая с лукавыми смешинками в уголках глаз приблизила губы к губам Художницы для земляничного поцелуя – сочнее ягод, нежнее сметаны, слаще сахара и душевнее хлеба. Принимая его как высшую награду, Художница поймала с драгоценных губ духмяную нежность июля.
Железная кровать сороковых годов выпуска сияла чистым отутюженным бельём, от которого исходил запах свежести – то ли какого-то тонкого пахнущего мыла, то ли кондиционера. Всё, к чему прикасались руки Любимой, приобретало этот прохладный аромат, слегка чопорный и строгий, напоминавший о матерчатых саше с сухими духами для белья из бабушкиного шкафа… Солнце рыжим котёнком устроилось на простыне, просовывая золотые лапки под одеяло, но прежде чем Художница с восторгом окунулась в волны благодати, предстояло ополоснуться в холодной бане.
Вместо лишённой запаха поролоновой губки – тонкий медовый дух липового мочала, вместо холодной городской ванны – деревянная шайка с тёплым отваром трав, подобранных мудрыми руками Любимой с тем расчётом, чтобы кожа стала мягкой и приятно пахла после омовения. Из влажного банного сумрака Художница вышла очищенной, лёгкой, успокоенной – и сразу попала в колдовские объятия.
Хотелось верить, что всё в тесной комнатке было поставлено специально таким образом, чтобы сосредоточить последнее сияние дня на фигуре любимой женщины: солнце, пойманное в ловушку зеркальной дверцы старого шкафа и такой же внутренней стенки серванта, озаряло её и зажигало вокруг её головы ореол густо-янтарного света. Распущенные волосы струились по обнажённой груди, а старая кровать устало скрипела, уже ничему на свете не удивляясь. Исступлённо впечатываясь нервно-твёрдым, сухощавым телом в сдобно-упругие изгибы Любимой, мягкой, как пуховая перина, Художница утопала в её доверчивой улыбке: в момент высшего упоения та раскрылась, сочетая в своём облике и детскую непосредственность, и жизненную умудрённость, и спокойную искушённость. Без пафоса, без выпендрёжа, с какой-то странной и забавной стыдливой искоркой в глазах Любимая вытворяла то, что юным лизуньям мороженого и не снилось. И это было не пошло, не развратно, а просто и естественно – так, как и задумывало бесстыдное солнце, гладившее сплетённые в постели тела сфокусированным лучом сладко-липового июльского бреда.
Старинный хрусталь в серванте, допотопный шкаф, вышитые скатерти, домотканые коврики, никелированная кровать – всё это уносило их в далёкое прошлое, в сороковые или пятидесятые годы. В прабабушкином домике время словно замерло: ничто в нём не тлело, не изнашивалось, не ломалось и не ржавело. Даже рукомойники висели с той поры и на фарфоровых тарелках не было видно ни трещинки.
С тихим вздохом завеса золотого звона расступилась, и в голову Художницы освежающей струйкой деликатно просочился голос Любимой:
«Ну, как твоя работа?»
Под работой подразумевалась картина, которую сейчас писала Художница. Зарываясь пальцами в пушисто-воздушные длинные волосы своей женщины, Художница ответила, не размыкая губ:
«Уже почти закончена. Нужный свет появляется только на полчаса, а если совсем уж строго, то всего минут на пятнадцать, поэтому и вожусь так долго».
«Хорошо. Думаю, всё получится. – И, навалившись на Художницу всей тяжестью своего мягкого тела, Любимая со смехом пробежалась пальцами по её выступающим рёбрам: – Что ж ты у меня тощая-то такая? Кормлю, кормлю – всё никак откормить не могу…»
«Куда ты меня откармливаешь – на убой, что ли?» – извиваясь змеёй от щекотки, хохотала Художница.
Но даже при улыбке вечная морщинка не покидала её лба.
2. Ангорская шерсть и красный педикюр
В шесть часов она ёжилась от утренней прохлады на остановке, ожидая первого автобуса. Асфальт отсырел и потемнел от ночного дождика; слоняясь из стороны в сторону, Художница не могла надышаться влажной свежестью и радовалась облегчению, наставшему после нескольких дней знойного ада.
В семь часов она жарила себе холостяцкую яичницу в своей городской квартире. Пока запускался компьютер, она солила и перчила лук с помидорами, выпускала яйца – аккуратно, чтобы не расплылись. Из носика чайника повалил пар. Щепоть заварки, кипяток и несколько кристалликов солёной грусти – оттого, что невозможно проводить всё время в объятиях Любимой. Нужно было работать, и много.
В полдень – обеденный перерыв. Живот уже подвело от голода, и Художница открыла холодильник… Мда, негусто. Яйца, помидоры, сыр и кефир. Чтобы не готовить глазунью второй раз, пришлось дойти до магазина, нагрузить полные пакеты и, шатаясь под тяжестью продуктов, дотащить всё это до кухни. За покупками Художница ходить не очень любила: приходилось говорить, а произносить звуки без контроля слуха не так-то просто – неизбежно привлечёшь к себе жалостливое внимание либо насторожишь людей своим немного странным выговором. Отчасти спасало только то, что Художница не успела забыть, как это делается: слух она потеряла в подростковом возрасте, но речь сохранила практически полностью. Ленивые мозги нормально слышащих людей не желали воспринимать телепатических сигналов, хотя ничто не мешало им научиться – ведь Художница же научилась. Хотя у такого способа общения были и некоторые недостатки: в людных местах чужие мысли иногда прорывали плотину ограждающего и успокаивающего золотого звона, наполнившего голову Художницы с момента встречи с Любимой. Собственно, Любимая и научила её всему этому. «Ты ловишь некий комплексный месседж, сгусток психической энергии, – говорила она. – И этот-то посыл твой мозг и расшифровывает как речь, раздающуюся в твоей голове. А поскольку ты владеешь грамматикой, то и речь эта привычно оформлена в слова и предложения, а не похожа на набор понятий».