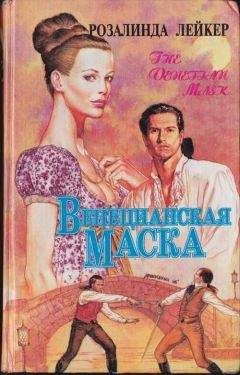улыбкой, которая была теплее шерстяного пледа, вязаных носков и какао с поплавками мармшмеллоу вместе взятых. И горечь куда-то отхлынула.
— Мы можем поговорить? — попросила я, и он шагнул назад в ванную, сделав приглашающий жест рукой. Мы закрылись на задвижку. Сердце бешено застучало у меня в груди.
— Ты пришел с Сарой?
— Ты ревнуешь? — довольно прищурился Франческо, касаясь моей руки.
Я сделала шаг назад.
— Я просто думала, что такие как она, не в твоем вкусе.
— А какая она?
— Ты знаешь, что я имею в виду. Не заставляй меня произносить это вслух.
— Jactum tacendo crimen facias acrius. Как же все у тебя чинно, уклончиво и благопристойно. Скажи мне, Анна, как твои картины смогут говорить правду, если истине ты предпочитаешь недомолвки?
Кто-то снаружи щелкнул выключателем, потом бешено задергал ручкой. Я нервно оглянулась. Франческо приложил палец к губам. Мы остались почти без света, если не считать крошечных лампочек над зеркалом. Снаружи раздалось два стука, потом послышались недовольные удаляющиеся шаги. Свет нам так и не включили. От музыкальных битов, раздирающих квартиру, дверь вибрировала.
— Ты злишься на меня, — констатировала я, подождав, пока шаги смолкнут.
— Mea culpa, — виновато улыбнулся Франческо, поправив очки. — Да, Анна. Ведь ты сама шагнула ко мне навстречу, и это было великолепно, как сон… Помнишь? Как мы любили друг друга той ночью, Анна, мы были единым целым, я трогал тебя, и через твое тело ощущал собственные прикосновения. Мы поймали ту частоту, с которой движется вселенная, и мы двигались вместе с ней, в ее ритме. Это и была абсолютная красота, Анна. Omnia vincit amor et nos cedamus amori.
— А Сара?
— Сара — пустышка, как и ее картины. Я принял ее приглашение только для того, чтобы увидеть тебя. Почему ты прогуливаешь мои лекции?
— Я… я плохо себя чувствовала.
— Ложь.
Он надвигался на меня. Я отступала, пока не ощутила спиной плитку.
— Я просто… Я просто запуталась… Не знаю, что и думать.
— Да, Анна, в этом и есть твоя проблема. Думать. Ты все хочешь переложить на язык слов и сверху пройтись катком своего разума. Но слова — человеческое изобретение, чтобы охотиться и воевать в группе. Бог говорит на языке чувств. И наши картины Анна — это их лучшее выражение.
Его руки обхватили меня за талию, его губы оказались в сантиметре от моего лица. От него пахло яблоком и кедром. И я почувствовала себя так хорошо и естественно в его объятиях, точно мы были скульптурой, отлитой из одного камня.
— Ты боишься хаоса, Анна. Но жизнь — это хаос. Искусство — это хаос. Бог — это хаос. Порядка не существует, порядок придумали люди, чтобы справиться со страхом смерти, но эти же люди никогда не жили по-настоящему. Посмотри на них, Анна, на офисных работяг, зомбированных монитором и придушенных галстуком, они покупают порядок, расплачиваясь свободой, а потом ходят к мозгоправам, ибо душе, бессмертной частице в них, рутина противна.
Вверх и вниз, вверх и вниз, — скользили его руки по моему телу. Гладили ключицы, сжимали грудь, ласкали талию и живот. Приподняв мою юбку, он гладил внутреннюю поверхность моих бедер, наваливаясь на меня и вжимая меня в стену, гладил кружевную ленточку моих чулок, страстно шепча мне в ухо:
— Анна! Анна! Твоя жизнь — сон, твоя тяга к совершенству — тщета. Подлинная красота — не идеальные пропорции, но огонь, горящий в нас. Пройдет не так много лет, и мы будем мертвецами, и другие будут топтать наши могилы. И они тоже будут считать себя богами. Мы без пяти минут прах. Ради чего твои жертвы, Анна?
Его руки остановились. Он расстегивал ремень своих брюк. Who wants to live forever? — кричал нам из динамиков Фредди Меркьюри.
— Проснись, Анна! Очнись! Пойми, наконец, что лишь искусство имеет значение. И мы, его преданные жрецы, мы несем его в массы, мы дарим людям то, чего они жаждут: мы дарим им вечность. Это мы — настоящие священники. Мы — проводники небесного для тех, кто от небес отринут. Мы — философы, постигшие язык вселенной.
Я обвила ногами его бедра, наши губы соединились в долгом и страстном поцелуе, а потом, насаживая меня на себя, Франческо продолжал шептать мне в ухо:
— Ars longa, vita brevis.
И мы были бессмертны.
Когда мы вернулись в гостиную, я с трудом могла стоять на ногах. Откуда-то в руке взялся бокал белого вина — я так и не смогла вспомнить, принес ли мне его кто-то или я сама взяла его со стола — и забившись в угол софы, я как завороженная качала им из стороны в сторону, рассматривая, как блестит и переливается золотистая жидкость.
Франческо опустился в кресло напротив и, подмигнув, затянулся сигаретой.
— Кстати, я так и не поняла твоего костюма.
— Не поняла? — хмыкнул он. — А так? Палладино воткнул сигарету в пепельницу, взял со стола крупное зеленое яблоко и сжал его между зубами.
Я засмеялась.
— Магритт! «Сын человеческий». Почему?
Франческо пожал плечами:
— Проходят века, сменяются эпохи, а люди в плену все тех же искушений. Все так же не знают, что им делать со страстями: то ли бороться с ними, то ли за ними следовать.
— Но ты, кажется, нашел ответ?
Он облизнул губы и с хрустом надкусил яблоко.
— А ты, кажется, все еще его ищешь?
— С чего ты взял?
— Твой костюм. Прорицательница. Какой можно сделать вывод о твоих тайных желаниях?
В гостиную, покачивая бедрами, вплыла Сара, сжимая туфли в руке. Она победно улыбнулась, устраиваясь на подлокотнике профессорского кресла.
— Фра-а-анци, где ты был? Я соскучилась.
— Сара, я ценю твой дружеский настрой, но давай остановимся на профессоре Палладино. По крайней мере, до конца учебного года, — мягко улыбнулся он.
— Вот вы где! — заглянула в комнату Эрика, короткостриженная девчонка с пирсингом в носу, в футболке, изображающей полотно Поллока.
Она плюхнулась на софу рядом со мной.
Не прошло и пяти минут, как гостиная оказалась намертво забита гостями. Здесь было человек тридцать. Кто-то притащил с кухни свободные стулья, кто-то уселся прямо на полу. По кругу пустили косяк.
Я курить отказалась и в разговоре («что лучше, быть вежливым или честным?») участия не принимала. Молча разглядывала резиновых пауков, спускающихся с потолка на тонких ниточках, салфетки, изображающие привидений, подставки под бокалы в виде черепов, и огромное блюдо с печеньем в форме человеческих костей.
Марк, бедный мой Марк, он и не подозревает, какая буря созрела в моей душе, и лишь мысль о его страданиях и