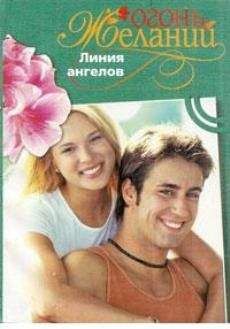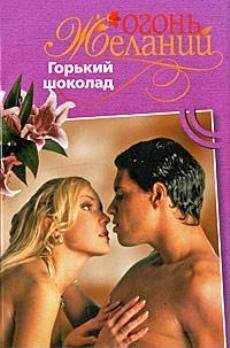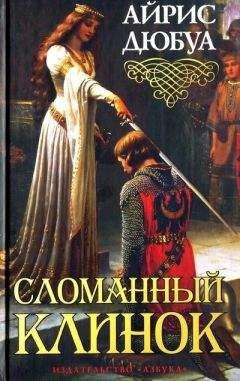На грозу они смотрели молча. Феликс сосредоточенно щелкал затвором, пытаясь поймать вспыхивающие ослепляющие молнии, запечатлевал неповторимые неустойчивые оттенки грозового полотна, которое низко растянулось над потемневшим городом; и даже, кажется, попытался сфотографировать гром. Радмиле, по крайней мере, именно так и показалось, когда вспышка фотоаппарата совпала с громовым раскатом.
Она переводила мрачные задумчивые глаза с грозы на Феликса и с Феликса на грозу. От обоих захватывало дух. Имелось что-то общее между одержимым человеком и бушующей стихией.
Она мысленно отделила свое мятежное сознание от этой реальности и посмотрела на себя со стороны. Жалкое зрелище! Тощая девица, поджавшая ноги с выступающими острыми коленками; растрепанная, неяркая, с помершими глазами, бледная, как припорошенная снегом кукла. А рядом с ней… Рядом с ней свет. Рядом с ней буря. Рядом с ней чудо.
Лучше ей уйти.
Она поднялась и отошла от окна. Феликс продолжал фотографировать. Радмила присела на софу, рядом с ней лежала сброшенная Феликсом рубашка. Она взяла ее в руки и поднесла к лицу. Чувствительных ноздрей коснулся знакомый пряно-горьковатый запах Ипатова-младшего, от которого ее сердце всегда успокаивалось. Ей были известны все ноты этого сложного будоражащего ее нервы запаха. К нему сейчас примешивался другой, слабенький, чуть сладковатый, цветочный.
Женский.
Чужой.
Радмила отложила рубашку-предательницу, покачав головой. В первый раз она, конечно, взволновалась, запаниковала, лишь совместными усилиями воли и разума сумев обуздать взбурлившую злость. И заставила себя промолчать, подавившись едкой ревностью, отравившись ей навсегда. Но это уже был не первый раз, когда одежда Феликса Ипатова пахла женскими духами…
Можно, конечно, предположить, что эти ароматы — последствия долгого пребывания Феликса в местах, пропитанных парфюмерией и косметикой: когда идет съемка, особенно для дамских журналов (а Феликс как раз делал снимки для новомодного женского журнала «Полли»), всегда царит настоящий бардак. Там не то что запахи чужие перемешаются в жуткую какофонию ароматов, там все может перемешаться: волосы с накладными ногтями, помада с тушью, трусы с сигаретами.
Объяснение, несомненно, нашлось бы (и находилось). Однако оно казалось слишком простым и очевидным. А Радмила не верила простым и очевидным объяснениям.
Любые же вопросы выглядели бы глупо. От них осталось бы противное послевкусие во рту. А от выдуманных ответов у нее бы разболелась голова — треснула бы по стыкам черепных костей.
Ее ревность теперь была ледяной сосулькой. Вросла острой, ограненной, колющей иглой прямо в сердце. Она торчала в груди и заставляла держать голову прямо.
В глазах вдруг стало темно. Свет померк потому, что Феликс, неслышно очутившийся возле нее, заслонил собой окно. Агатовые глаза смотрели на нее, болезненно проникая под кожу. Внутри у нее что-то екнуло, оборвалось и скатилось в темный тихий омут.
— Ты, моя драгоценная, наверное, еще не знаешь, что гроза на меня всегда действует весьма и весьма специфически, — произнес Ипатов вкрадчиво и потянулся к ремню на джинсах. Расстегивал он его медленно и красиво, каждое малейшее движение — завораживало. — Во мне оживают все дикарские инстинкты, когда я слышу гром и вижу молнии.
Радмила выразительно взметнула брови. Вид Ипатова-младшего без джинсов действовал на нее примерно так же, как на него — гроза. Ее ожившие «дикарские» инстинкты мгновенно заслонили сосульку-ревность. Пусть торчит и колет. Сейчас не до нее.
Черт с ней, с ревностью!
Феликс опустился перед ней на корточки и, взяв ее босую ступню, поставил к себе на колено. Его рука ласкала каждый пальчик, каждый сантиметр, постепенно поднимаясь все выше и выше, к чувствительной ямке под коленом. Его глаза не отрывались от ее лица.
Как же Феликс Ипатов сумел подробно изучить Радмилу Туманову! За столь ничтожный срок! Радмила сделала глубокий вздох. Дышалось ей с трудом.
За окном снова прокатился гром, далекий, тихий, выдохшийся. Гроза уже миновала город, и текла дальше. Пробивающееся солнце сделало удаляющуюся тучу совсем черной. На посвежевшем небе уплотнялась радуга.
— Радуга, — теряя силы и выдержку, шепнула Радмила.
Ипатов обернулся на окно, за которым высоко изгибалась живописная дуга. Радмила нарочно сказала ему о радуге. Это был как будто эксперимент.
Над своими нервами.
Она подумала, что Феликс опять немедленно схватится за фотоаппарат, позабыв про все инстинкты, кроме единственного — запечатлеть: ни один фотограф-гений-одержимый не смог бы устоять перед подобным блистающим соблазном, перед такой редкой живой красотой. Ипатов просто обязан был схватиться фотоаппарат.
— Красиво, — признал он спустя секунду после пристального созерцания, — но она не последняя радуга в моей жизни. — Феликс обернулся к Радмиле и неуловимым движением ловко опрокинул ее на софу, прижимая своим теплым крепким телом к прохладному покрывалу.
«А может, все будет хорошо?» — сверкнула у нее последняя мысль перед тем, как ум зашел за разум и отключился, уступив место сплошным диким инстинктам.
* * *
Мир в субботнее утро может быть светлым или бледным, красочным или тусклым. А может быть сверкающим — это когда открываешь глаза и сразу зажмуриваешься, потому что весь солнечный свет устремляется тебе в зрачки. И даже сквозь закрытые веки этот дивный свет виднеется. Но мир становится сверкающим только в том случае, если смотреть на него глазами, наполненными любовью. Любовь — вот та линза, которая притягивает свет.
Радмила полностью осознала, что любит Феликса Ипатова до умопомешательства, через три часа после того, как ушла гроза. Было очень тихо, сумеречно, даже зябко. Успокоившаяся кровь чуть замедлила свой бег и, остывшая, чуть грела.
Мысль о настоящей, первой и единственной любви обрисовалась в голове совершенно неожиданно — будто вынырнула откуда-то из темной непроницаемой глубины. Четкая, ясная, резко очерченная.
«Я его люблю».
До этого у нее имелись всяческие сомнения, множащиеся и перевивающиеся в клубок, загораживавшие эту простую истину. Если бы ее спросили еще накануне, любит ли она Феликса Ипатова, то она бы честно не ответила. Начала бы изворачиваться, утверждая, что он ей сильно нравится, что она им восхищается, что он — необыкновенная личность-магнит и так далее, так далее. Теперь же на тот же самый вопрос она сказала бы правду.
«Я его люблю».
От этого внутренний сумбур рассеялся сам собой. Из души ушло все ненужное, мелочное, второстепенное. Теперь там стало мирно и светло. Как в раю.