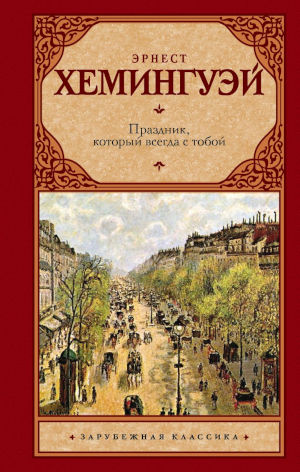Рактер говорит это ничуть не грубо и не зло. Он совершенно бесстрастен.
Возможно, именно это и пугает Шей — она не может понять его интонацию. Она растерянно моргает.
— Что?..
— Увы, вы стали без меня совершенно беспомощны.
Нежную серебристую музыку ее чувств будто разрубает скрежещущей нотой. Страх и — нет, еще пока не понимание: лишь предчувствие понимания…
Рактер на секунду разжимает свои пальцы, потом снова перехватывает ее ладонь. Но за то мгновение, что он не касался ее, Шей покачнулась в воздухе, словно невидимую опору из-под ее ног вдруг убрали.
Он терпеливо разъясняет:
— Вы сами сказали: я — ваша жизнь… Ваша радость и ваша сила — все это я. И, похоже, это действительно так. Больше у вас теперь ничего нет, только я. Но что у вас останется, когда я скажу, что вы мне не нужны?
— Но… как так? Вы же сами… говорили, что нужна, — возражение звучит удивительно нелепо, но странно в такой момент требовать от нее большего. — Вы называли меня особенной… мессией…
Она заглядывает ему в лицо, и Рактер наконец-то позволяет увидеть ей себя настоящего. Увидеть пустое и страшное равнодушие. Увидеть, что он бы легко мог — и подумывал — убить ее сотней разных способов. Или искалечить и кормить с ложечки, наслаждаясь ее беспомощностью. Но все еще хуже: она просто не нужна ему.
Он забрал все, что хотел, и ему больше не хочется тратить на нее свое время.
— Я врал. Ну какой из вас мессия. Глупая зацикленная на себе девочка.
Шей дышит хрипло и тяжело. Молчит. Слова закончились. Сильно, до боли стискивает его руку своими тонкими смуглыми пальцами. Боится. Осознала, что от земли ее отделяют многие сотни метров. И что внутри нее — потроха. Петли кишок, сети сосудов, непрерывно изнашивающиеся, склизкие, ноздреватые, невероятно хрупкие органы…
Потроха и больше ничего.
Пульсирующий серебристый свет, исходивший от нее, погас. С каждой секундой тело Шей становится все тяжелее, пока она не повисает на его руке, как гиря.
Сорок восемь килограммов.
Рактер резюмирует:
— Вы ведь сами прекрасно знаете… Когда человек превращается в жалкого, вечно скулящего паразита, от него избавляются. Вы ведь и сами поступали так с другими.
Море внизу бьет ровно, как колокол.
Она висит на его руке, беспомощная, темная, тяжелая. Ее лицо искажено ужасом.
Они смотрят друг на друга невероятно долго: она — снизу вверх, он — сверху вниз. В конце концов мельтешение красок ЭМ-излучения Шей вдруг сливается в одну сплошную усталость. Как будто из нее разом выпустили весь воздух. Как будто она в глубине души знала, что рано или поздно так все и будет. Она разжимает пальцы, которыми до этого отчаянно хваталась за его запястье, — смирившись с неизбежным.
— Зря я тогда… — шепчет она. — Зря не поверила Гоббет… И зря спросила, что бы вы хотели у меня взять…
— Да. Зря, друг мой.
Когда он отпускает руку Шей, ее тело черным камнем падает вниз и исчезает во тьме. Океан так далеко, что он, конечно, не слышит плеска.
По всем известным Рактеру законам физики он должен упасть следом за ней, но вместо этого опускается медленно и плавно. Ни мышцы, ни металл как будто ничего не весят, и полы пальто, светящегося во тьме серебром, поддерживают его, как крылья.
Эпилог
Гонконг беспокойно ворочается и тяжело вздыхает во сне, словно страдающий подагрой великан.
Седой мужчина в черном пальто с дроном, который жмется к его ногам, как собака, стоит ночью посреди погруженного в дрему цветочного рынка Монг Кока и держит горсть лепестков.
Над городом висит влажный туман, безветрено, но откуда-то взявшийся вихрь танцует вокруг него, осыпая волосы и плечи снегом из цветов.
Он закуривает — без зажигалки, просто коснувшись пальцем кончика дешевой сигареты. Выдыхает в ночь клуб табачного дыма и широко, радостно улыбается — как человек, который не только намерен пережить конец света, но и собирается искренне наслаждаться каждым шагом и вздохом своей вечной жизни. Своим огромным и холодным одиноким счастьем.
Луны не видно, но лепестки в его ладони светятся, как кусочки серебра.