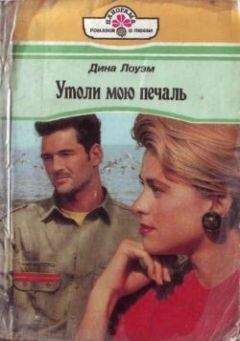– Унсан – гиблое место, – согласился Майкл. – Таких мест было много. Но об этом тебе знать не надо.
Он снова коснулся опасной темы, не боясь, что оттолкнет ее этим. Теперь Мэдж была связана с ним живым теплом их сплетенных тел, мягким уютом его голоса. И это чувство защищенности в темной и молчаливой комнате пустого здания уже не могло покинуть Мэдж. Дверь в ее исстрадавшуюся душу открывалась не чем иным, как нежными словами и страстным желанием разделить все. Особенно самое скверное.
– Мне-то было не так уж плохо, – сказала она.
– Потому что была крыша над головой?
– Я была медперсоналом. Это все же не то, что сидеть в траншеях.
– Но это не было и тылом, Мэдж. Поверь мне.
Снаружи снова собиралась гроза, вдалеке глухо ворчал гром. Где-то одиноко и печально ухал филин. Здесь, в темной маленькой комнате, Мэдж, широко открыв глаза, цеплялась за Майкла, словно за спасательный круг.
– Какое у тебя самое яркое впечатление о Корее? – спросил он.
У нее сразу перехватило дыхание. Чувство защищенности исчезло.
– Самое яркое воспоминание о Корее? Боже мой, о чем ты говоришь?
– Ну, расскажи мне.
Она пожала плечами.
– Я тебе говорила. Я очень мало помню о той войне. Да и зачем?
– А хочешь, я расскажу?
«Нет», – с ужасом подумала Мэдж. Но губы произнесли:
– Да.
Он чуть крепче обнял ее, продолжая лениво перебирать волосы.
– Мой взвод попал в засаду, – легко заговорил он гипнотически спокойным голосом. – Только что мы шли в полный рост, а тут попадали лицом в грязь. Пулеметы строчили, мои парни вопили, пытаясь как-то укрыться от пуль. И вдруг случилось нечто невероятное. Как будто весь мир исчез. Вместе со звуками – пулеметным огнем, криками и всем прочим. Прямо перед собой я увидел прекраснейший маленький цветок. Я совершенно отчетливо помню, как лежал там на брюхе с винтовкой на спине и пялился на этот цветок, словно это было чудо. Я был совершенно зачарован этим цветком в грязи. Затем снова нахлынула волна звуков. Все отстреливались и орали, чтобы узнать, жив ли я, а я все лежал лицом вниз. Тут я встряхнулся, отполз назад, и мы выбрались оттуда. Но я никогда не забуду этот цветок.
– И это твое самое яркое воспоминание? А когда тебя ранило?
– Вот это я помню плохо. Смутные образы, как во сне. Цветок запомнился гораздо острее.
Некоторое время Мэдж лежала зажмурившись и явственно видела этот цветок, возможно пурпурный, в грязи, среди стрельбы, и молодого человека с глазами цвета морской волны, глядящего на него. Ей почему-то вспомнился Джимми. Отгоняя видение, Мэдж открыла глаза и взглянула на грудь и живот Майкла – свидетельство того, что он пережил. У нее не было его мужества. Она бы так не смогла.
– Я одевалась у себя в закутке, – тихо сказала она, вдруг представив себе это так же ярко и отчетливо, как это было в тот день. – Через полчаса надо было заступить на дежурство, а я никак не могла надеть ботинки. Помню, что один шнурок завязался узлом. Внезапно раздался сигнал тревоги – массовое поступление. Я кое-как натянула одежду, схватила недопитую кружку с кофе и вылетела прямо на сортировку. И вот я бегу, стараясь поспеть к трапу самолета, и думаю – наверное, идет дождь, потому что мне капает прямо в кружку. Поднимаю глаза – а никакого дождя нет.
Ее голос упал, так же как тогда упало ее сердце.
– Надо мной был фюзеляж самолета. И то, что капало мне в кофе, было кровью раненых.
Старая боль возникла в груди. Джимми взывал к ней, но Мэдж отказывалась слушать. Она жестоко отшвырнула его туда, где он должен был находиться. Где все они должны были находиться.
– И ты думаешь, такое проходит бесследно? – тихо спросил он.
Днем она бы не ответила на этот вопрос. Но сейчас, лежа в его объятиях, под его защитой, Мэдж обрела голос:
– Но мне не надо было никого убивать!
– А что, люди страдают от войны только потому, что они должны убивать?
– Я делала свою работу, – настаивала она. – Я всего лишь делала свою работу.
– Зачем?
– Что «зачем»?
– Зачем ты делала свою работу? Зачем ты приехала в Корею?
Мэдж открыла рот для ответа, но слова не шли с языка. Слова, которые уличали и обвиняли ее.
Ей очень нужна была помощь. Она сразу попала в мир, состоящий из бесконечных верениц военных автомобилей и пыльных аэродромов, шума и жары, невероятных запахов. Конечно, она беспокоилась. Козыряла кадровым офицерам. Была готова выполнить любое задание.
– Они умирали, – наконец сказала она вслух. – Что бы там ни происходило, слишком много ребят умирало, и я знала, что не могу помочь им.
Некоторое время Майкл гладил ее по голове, словно он был матерью, а она – испуганным ребенком. Страдающим, обманутым.
– Знаешь, как называли посттравматический синдром в Гражданскую войну?[4] – очень мягко спросил Майкл.
– А какое отношение это имеет к нашей истории? – слабо возразила она, не желая больше слышать о войне.
– Выслушай меня! – попросил он. – И на этом закончим. Сейчас это называют ПСС. В Корее это называлось «военный психоз». Во второй мировой войне – «военный надлом», в первой – «контузия». Ты знаешь, как это называли в Гражданскую войну, Мэдж.
– Нет, – прошептала она. – Скажи.
Он приподнял ее так, что они оказались лицом к лицу, пристально посмотрел ей и глаза.
– В Гражданскую войну, Мэдж, – сказал он так проникновенно, что ей захотелось плакать, – это называли «солдатское сердце».
Мэдж не могла ничего ответить. У нее перехватило дыхание.
– Мне хотелось, чтобы ты это знала, – продолжал он, гладя ее по шее. – По-моему, это самое лучшее название из всех, не так ли?
Слезы покатились у нее из глаз, горячими капельками обжигая ему грудь.
– Да, – всхлипнула она. – Да, конечно.
Мэдж снова увидела себя в тот день с кружкой кофе в руке. Увидела, как крупная капля крови упала на ободок и скатилась по белой эмали прямо на большой палец, оставив темный след. Одна капля крови, которую она никогда не сможет вытравить из памяти, подобно леди Макбет.
– Я с тобой, – прошептал Майкл, крепко обнимая ее. – Я с тобой, Мэдж.
И впервые за многие годы она разрыдалась, чувствуя невольное облегчение: он был рядом, он принимал ее боль.
Так больше не могло продолжаться. Прошло уже четыре дня после той сладкой, фантастической ночи, а Мэдж все еще не знала, что ему сказать. Она была в полном смятении. Майкл знал о Сэме. Никто этого не знал. Никто бы не понял.
Он понял.
Там, в маленькой, недоделанной комнатке, на раскладушке, он вручил ей самый замечательный подарок, который она когда-либо получала от мужчины. Но при этом он открыл старые двери, которые лучше бы было держать закрытыми, и выпустил на свободу не только старые воспоминания и старых демонов, но и старые эмоции. Грусть и печаль, которых не должно быть у женщины, видящей своих детей здоровыми и счастливыми. Ужасное разочарование в тупой администрации больницы. Бесполезный гнев и опустошающая меланхолия. Неожиданная ярость и еще более неожиданные вспышки восторга. Все это теперь переполняло Мэдж. И все это пришло к ней потому, что она попросила Майкла Джордана любить ее.