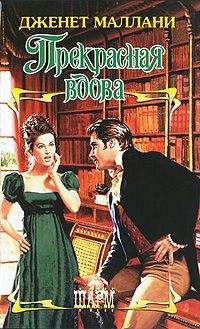— Миледи, его сиятельство спрашивает вас.
— Ему хуже? — Я вытираю глаза платьем и поднимаюсь с колен.
— Не думаю, миледи.
— Я сломала это, Робертс. Этот подсвечник сделал для него один из моряков «Арктура», и…
— Не переживайте, миледи. — Он ласково берет у меня сломанный подсвечник. — Я починю. У меня есть клей. Навестите его сиятельство, миледи. После этого мы сразу подадим обед.
Я нахожу Шада сидящим в постели, его глаза слишком блестят, лицо заострилось, щеки горят. Он разглядывает ногу.
Когда я вхожу, он поднимает глаза.
— Я должен знать, беременны ли вы.
— Простите, что? — Я изображаю оскорбленную добродетель. — Я узнаю это через несколько недель, Шад. Вы только за этим хотели меня видеть? Вам лучше лечь.
— Черт, еще один волдырь между пальцами. Я доберусь до них, чтобы почесать. — Что он и делает. На его лице блаженство, которое я видела однажды… гм… при столь же интимных обстоятельствах.
Я наливаю ячменный отвар, чтобы скрыть расползающийся по моим щекам румянец.
— Принесите мне бренди.
— Вас стошнит, а я могу не успеть с горшком. — Я сую ему в руку стакан: — Выпейте, пожалуйста. Он морщится, пьет и падает на подушку.
— Я видел Фредерика.
— Вашего брата?
— Да. — Он закрывает глаза.
— И?
— Он сказал, что у него новый бастард. Ходячая неприятность мой братец. Оставляет мне свои проблемы. — Шад что-то бессвязно бормочет в подушку. — Я любил его. И ненавидел за то, что он умер, болван. Если бы он не умер, я бы остался во флоте и не связался бы с титулом и всей этой суетой. — Его глаза закрываются.
Когда я отхожу от кровати, он хватает меня за запястье.
— Черт бы вас побрал, вы к нему не пойдете!
— Шад, прекратите!
— Что? — Заморгав, он уставился на меня. — Поцелуйте за меня детей. Не хочу, чтобы они видели меня в таком виде.
— Шад, поверьте, никто не хочет вас видеть таким. Вы выглядите ужасно.
Пульс у него быстрый и неровный. Я смотрю на его запястье, выглядывающее из кремовой сорочки: вижу выступающую косточку, синюю вену, завитки черных волос, уродливые мертвенно-бледные пузырьки на коже… Затем кладу ладонь на его руку.
— Не умирайте, — шепчу я. — Пожалуйста, не умирайте.
Через несколько минут в спальню возвращается Робертс.
— Обед подан, миледи.
Я поднимаюсь, и рука Шада выскальзывает из моей.
— Не послать ли нам за врачом? Он все еще горит.
Робертс вынимает из миски с водой ткань, отжимает и кладет на лоб Шаду.
— Дайте ему время, миледи. Я ожидаю перелома сегодня ночью или завтра.
От прикосновения мокрой холодной ткани Шад подскакивает и бормочет слово, которое, думаю, было в ходу на борту корабля.
— Ох, сэр, — укоряет Робертс. — И перед ее сиятельством.
У меня нет аппетита, но я пью много вина, надеясь, что это остановит мои бесконечные думы. Слова из письма Шада не выходят у меня из головы. Он написал, что любит меня. Написал, возможно, потому, что болен. Да, должно быть, именно поэтому. Шад, несомненно, сильно смутился бы, узнай он, что я читала эти строки.
Наконец я понимаю, что, если напьюсь до бесчувствия, это встревожит слуг, и возвращаюсь наверх. Я вхожу в спальню. Шад лежит неподвижно, Робертс протирает лекарством ему спину.
— Готово, милорд. Ее сиятельство пришла повидать вас.
Я отправляю Робертса спать — мы решили нести вахту, как моряки, по четыре часа каждый — и занимаю место в кресле у кровати. Полумрак в комнате нарушает лишь золотистый свет единственной лампы, фитиль которой низко прикручен. Наклонившись, я кладу руку на лоб Шаду. Он с раздраженным ворчанием отстраняется.
— Где Робертс?
— Я отправила его спать. Шад открывает глаза.
— Верните его.
— Нет. — Я подаю ему стакан ячменного отвара. — Если вы выпьете все, Робертс, возможно, позволит вам поесть кашу.
Шад бормочет ужасные ругательства, потом говорит:
— Вливая в меня много жидкости, вы понимаете неизбежные последствия?
— Я подам сосуд, сэр, и отвернусь. — Его излишняя скромность становится утомительной.
Робертс, зевая, сменяет меня около часа ночи, и я ухожу в спальню для гостей. К моему смущению, одна из служанок в кое-как надетом в темноте платье и с сонными глазами ждет, чтобы расшнуровать мне корсет и помочь лечь. На будущее я буду надевать корсет, который зашнуровывается спереди.
Не думала, что смогу спать, но я засыпаю и, проснувшись, вижу просачивающийся в комнату серый свет. В доме очень тихо, так тихо, как может быть тихо в лондонском доме. Выглянув в окно, я вижу служанку — она на коленях красными руками скребет ступеньки, ведущие вниз, в подсобные помещения. По улице едет телега.
Закутавшись в большую шаль, дабы не потревожить чувствительность Робертса, я подхожу к спальне. И чуть из кожи не выпрыгиваю, когда маленькая фигурка в белом поднимается на ноги, протирая глаза.
Это дочь Шада, Эмилия.
— Что ты здесь делаешь? — спрашиваю я. — Ты всю ночь спала под дверью?
— Робертс не позволил мне увидеть дядю Шада. Мэм, он умирает?
— Нет! Конечно, нет.
Девочка сопит и вытирает лицо рукавом.
— Миссис Прайс, наверное, волнуется.
— Ох, — вздыхает она и со слезами спрашивает: — Пожалуйста, миледи, можно мне повидать дядю?
— Я спрошу его, но он очень нездоров и ужасно выглядит. Я не хочу, чтобы ты испугалась.
Выражение лица девочки заставляет меня задуматься. Она смотрит так по-взрослому, так удивлена, что к ней относятся как к ребенку. Неужели это ее любовь к Шаду и его бесспорная отцовская любовь делает Эмилию такой бесстрашной?
Я велю ей подождать и вхожу в спальню. Робертс спит в кресле.
Шад что-то бормочет, переворачивается и смотрит на меня яркими лихорадочными глазами.
— Шарлотта? — хмурится он, проведя рукой по подбородку. — Я еще не брит.
— Вам нельзя бриться. Вы можете повредить пузырьки.
Следует ругательство.
— Вас хочет видеть Эмилия.
— Нет. Никто, кроме вас и Робертса, не должен входить в эту комнату.
Я подхожу и кладу руку ему на лоб. Все еще горячий, пузырьки выглядят хуже. Шад, как обычно, стряхивает мою руку.
— Она всю ночь спала под дверью, ждала возможности увидеть вас.
— Хорошо, но только на несколько минут, и ставни должны быть закрыты. Разбудите Робертса, чтобы я мог умыться.
Я обдумываю эту просьбу. Робертс спит мертвым сном — неудачный выбор слов, — так запрокинув голову, что у него наверняка разболится шея. Я подозреваю, что у Шада была тяжелая ночь, и у Робертса, следовательно, тоже.