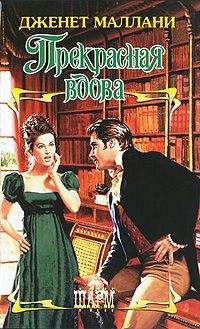Я отвечаю уклончиво, карета направляется к дому. Брат нарушает тишину:
— Как думаешь, с мамой все в порядке?
— С мамой?
— Вы с Энн вышли замуж одна за другой. Думаю, ей одиноко, и папа тут не помощник. Он умеет только продавать лошадей, и то с убытком.
— На мой взгляд, она все такая же.
— Навещай ее чаще, Лотти. Возьми ее в магазин или куда еще женщины ходят вместе. Она безвылазно сидит дома с бутылкой кордиала.
— Хорошо. — Правду сказать, я не слишком беспокоюсь о маме. Ведь целью ее жизни было, чтобы я сделала достойную партию. — Но, Джордж, ты живешь дома. Почему ты не возишь ее по магазинам?
Брат в ответ делает испуганную гримасу. Жаль, что он не может взять мать к Джентльмену Джексону или в другие места, пользующиеся дурной славой, где часто бывает. Могу себе представить ее заявления при виде сливок общества, которые лупят друг друга до синяков.
Я тороплюсь домой, к Шаду. Дом Шада — мой дом. До этого момента у меня не было такого чувства. Муж ждет меня дома. У меня такое ощущение, будто я перекатываю во рту восхитительную конфету, ожидая момента, когда раскушу ее.
Карета останавливается у нашего дома, и я легко выпрыгиваю из нее. Манеры требуют, чтобы я пригласила брата зайти, но мы привыкли к взаимной невежливости.
Я мчусь в дом — лакей, наверное, подумал, что мне необходим туалет, — вверх по лестнице. Расстегиваю накидку, атлас скользит на пол, словно большое темно-синее перо.
Когда я открываю дверь в спальню, Шад шевелится под одеялом. Сидящий у кровати Робертс встает и кланяется.
— Вы рано вернулись, миледи.
Я стою в дверном проеме, в тени, так что он не видит мою поврежденную губу.
— Да. Можете идти, Робертс. Я посижу с его сиятельством ночью.
— Хорошо, миледи, — бормочет он. — Температура все еще высокая, но думаю, он чувствует себя лучше. Он очень зол.
Когда Робертс выходит из комнаты, Шад приподнимается на локте.
— Чего вы хотите, Шарлотта?
— Я была в Воксхолле.
— Я знаю. Почему вы вернулись так рано?
— Я хотела быть рядом с вами. Это мой дом, и я люблю вас.
Я сказала это! Для меня стало огромным удивлением и колоссальным облегчением, словно до этого момента что-то сдерживало меня. Меня даже не волнует, что Шад в ответ не говорит, что любит меня, он вообще ничего не говорит.
Он уставился на меня, его глаза горят от лихорадки. Лицо покрыто подживающими болячками и густой черной щетиной. Сейчас он совсем не похож на красавца. Он выглядит больным. Больным, но живым!
— Очень хорошо. Повернитесь.
Я подчиняюсь.
Он распускает шнуровку платья, и оно под шелест шелка падает к моим лодыжкам. Он явно более живой, чем я думала.
— Оставьте страусовые перья и чулки с подвязками, — говорит он. — Все остальное можете снять.
Я открываю рот, чтобы сказать, что его требования неприличны, но он опережает меня:
— И я вас люблю. Сам не знаю почему, но, черт побери, я прилепился к вам, Шарлотта.
Слава Богу!
Шад тянет меня на кровать и ясно дает понять о своих намерениях, однако мой здравый смысл поднимает свою уродливую голову.
— Не думаю, что это хорошая идея для человека в вашем состоянии.
— Ерунда. Любой врач посоветовал бы мне поднять настроение.
— Таким способом?
Он поднимает глаза от… гм… от того места, куда смотрит. Я нахожу, что его щетина в нынешних обстоятельствах совсем неплоха.
— Именно. Вы хотите, чтобы я остановился?
— Полагаю, врач порекомендовал бы вам кровопускание.
Он вульгарными словами поминает пиявок.
— Мне нужна горничная, — не к месту говорю я.
— Именно сейчас? И что, по-вашему, она должна делать?
— Уидерс ушла, когда мы подумали, что у вас оспа.
— Неисповедимы пути Господни. Садитесь сверху.
— Почему?
— Потому… — Он поднимает щетинистое лицо к моему. Его губы потрескались от лихорадки, тело горячее и огрубевшее от ста семидесяти пяти болячек. Рот тоже горячий, но это не назовешь неприятным. — Потому что я должен щадить свои силы. Не надо так изумляться, Шарлотта, англиканская церковь одобряет эту позицию, но не в дни Великого поста, разумеется. Я уверен, в молитвеннике где-то об этом говорилось.
— Да уж конечно.
В этой позиции есть особенное удовольствие, вначале она напоминает мне, как в детстве мои братья катались на пони, а потом я ничего не вспоминаю, поскольку Шад выбивает все у меня из головы.
Придя в себя, я обнаруживаю, что его твердая костистая грудь под моей щекой прохладная и влажная.
Природа — великий лекарь.
— Лихорадка прошла!
Он, как обычно после исполнения супружеских обязанностей, пребывает в расслабленном состоянии, даже при том, что на сей раз больше усилий потратила я.
— Ммм… — Он поднимает руку, чтобы почесать бороду. — Не говорите этого.
— Чего?
— Вы собираетесь сказать «прекратите чесаться».
Я слезаю с него. На кровати сбитые простыни.
— Нужно попросить Робертса сменить постельное белье.
— Нет, пока не надо. — Он зевает.
— Шад, когда вы влюбились в меня? Или прилепились, как вы изящно выразились?
— Дайте подумать. Возможно, когда вы напились и свалились со ступенек на вечере у моей сестры. Я не знаю, Шарлотта. Когда вы почти сказали, что любите меня, но вместо этого разглагольствовали о любви к лошади. Вы срослись со мной, как мох. В хорошем смысле. — Прикрыв глаза, он бормочет что-то про полчаса, потом поворачивается и засыпает рядом со мной, уткнувшись лицом мне в шею.
— Я люблю тебя, — шепчу я ему на ухо.
Он крепко спит и не отвечает. Но это не имеет значения.
Я снимаю то, что осталось от страусовых перьев, вытаскиваю из-под себя подвязку (одному Богу известно, где вторая) и, обняв Шада, накрываю нас обоих одеялом.
Значит, эта потребность защитить и найти приют, быть с человеком, который никогда не надоест, чьи бесконечные причуды, мысли и действия становятся твоими, и есть любовь?
Это чудо. Я жив, хоть и весь в пятнах. Робертс в крайнем смущении (должно быть, это он ночью задернул балдахин над сценой нашего разврата) заставляет меня подняться с кровати, чтобы поменять простыни, сильно пострадавшие от моей испарины и усилий Шарлотты.
Она, похоже, поднялась несколько часов назад разослать родственникам записки о моем выздоровлении, что означает очередной поток посетителей. Я же хочу лишь одного — побыть с ней наедине. Я хочу говорить с ней, узнать о ней больше. Мы как можно скорее уедем из Лондона, у нас будет настоящий медовый месяц. Какой я дурак, что подумал, будто она замышляет адюльтер с Бирсфордом, вообразил, что она любит кого-то, кроме меня.