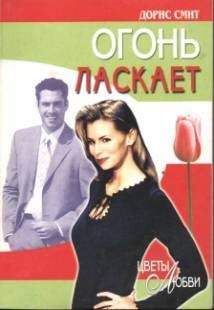Приятный голос слегка замялся. Я слышала слова «признаки закупорки» и другие фразы… «на данной стадии никакой опасности», «может быть, и не о чем беспокоиться». Разговор, практически односторонний, завершился словами:
— На данный момент это полная картина, миссис Гибсон, как вы и хотели. Я снова свяжусь с вами, когда буду знать больше.
Я пришла в себя как раз вовремя, чтобы успеть спросить:
— Когда вы оперируете?
— Завтра в пять часов.
— Кто это был? — Мама спустилась по лестнице, как раз когда я положила трубку.
— Не туда попали, — выдавила я.
— Что-то долго.
— Да это один из этих придурков, которые не понимают слово «нет».
— А теперь домой и поешь, — скомандовала мама, когда мы приехали в роддом.
Ночь была бесконечной. Не успела я лечь, как все следы усталости покинули меня, и я лежала, глядя в темноту, пока у меня не заболели глаза. Я встала в шесть и позвонила в роддом. Мама провела ночь хорошо, но предположение о ложной тревоге не подтвердилось.
— Позвоните опять в одиннадцать, может, к этому времени мы сможем что-то сказать, — радостно объявила медсестра. Однако и в одиннадцать мне не смогли ничего сказать. — Вы знаете, все протекает очень медленно, — объяснила та же медсестра.
Мистер Фоли дал мне выходной, и я весь день действовала словно автомат — звонила Марии, отвозила Линду к миссис Лэйн, которая приютила ее, пока мамы нет дома, потом поехала в роддом и увидела там маму, прогуливающуюся в халате по коридору.
— Разве ты не должна быть в постели?
— Всему свое время.
Мы вернулись в ее комнату, следом за нами вошла медсестра, спросила маму, «считает ли она», измерила ее пульс и приложила стетоскоп к животу. Я отвернулась к окну, но мама все-таки успела заметить мое лицо.
— Езжай, детка, я знаю, что тебе сейчас нелегко.
— Вернусь, когда повидаюсь с папой, — не без облегчения пообещала я.
— Я буду здесь. — Она неожиданно улыбнулась. — Иди, иди, детка. Ты, должно быть, умираешь от голода.
Это была шутка. Я не могла есть даже под угрозой смертной казни, хотя позже в больнице мне все-таки пришлось съесть печенье из папиной тарелки, а когда он предложил мне еще одно, я с отчаянием ответила, что уже поела. Я сидела и пыталась подбодрить себя мыслью, что он не выглядит больным, просто немного похудел. Он сказал, что час назад звонила Мария. Она не хотела отпрашиваться с работы, не успев приехать туда, но надеялась, что сможет приехать на следующей неделе.
— Подозреваю, что это намек на то, чтобы мы купили ей билет, — улыбнулся папа. — Если только Саймон не будет возвращаться в тот же день. Она сказала, что видела его вчера.
— Видела Саймона? — настороженно повторила я.
Но подробностей папа сказать не мог — разговор по телефону был слишком короткий. Вскоре после этого сестра сказала, что мне пора уходить. Когда я вернулась в роддом, мне лишь на минутку дали увидеться с мамой. Она лежала в постели, ее рука была влажной.
— Ну как он?
— Не стоит за него волноваться, по крайней мере пока у него есть образование, — сказала я. Я не знаю, что об этом подумала сестра, но мне достаточно было слабой маминой улыбки.
— Думаю, вы можете подождать здесь. — Другая сестра проводила меня в комнату внизу. — Думаю, все будет быстро.
В комнате уже сидел один ожидающий, но он был погружен в газету и не посмотрел на меня. Я села напротив него, стараясь не вспоминать рассказ, прочитанный мной когда-то, в котором рождение ребенка у жены рыбака совпало со смертью ее мужа на море. Только я из всей семьи была настолько глупа, чтобы думать в такой момент о подобных вещах. «Это безумие, — говорила я сама себе. — Бог этого не допустит», но мысль не отставала, перемешиваясь с воспоминанием о ласковых голубых глазах, выступающих скулах и шее, которая в пижамной куртке казалась тоньше, чем обычно.
«Я не хочу, чтобы ребенок родился в пять часов, пожалуйста, Господи, Ты слышишь меня? Кон Гибсон, не будь такой тупицей: как ты думаешь, дети рождаются по расписанию?.. Послушай, Господи, пожалуйста, если этот ребенок — вместо папы, он нам не нужен. Если это как одна закрывающаяся дверь, а вторая открывающаяся, мне все равно, во что это выльется, нам не нужен этот ребенок…»
Дверь открылась.
— Врач хотел бы переговорить с вами, мисс Гибсон, — сказала сестра.
Я посмотрела на часы — было без одной минуты пять.
— Насколько я понимаю, ваш отец сейчас в больнице, — начал врач. — В какой именно?
Он был потрясен и взволнован, когда я рассказала ему, что происходит в этот момент в тайне от мамы. Он хотел связаться с отцом, потому что возникло осложнение. У меня уже не осталось ни эмоций, ни слез. Я довольно спокойно спросила, стало ли маме хуже. Оказалось, дело не в маме. Если верить гинекологу, она была «в поразительно хорошем состоянии», но схватки длились уже очень долго, более двадцати четырех часов, а ребенок не выходил. Его сердцебиение вызывало беспокойство. Поэтому они предлагали сделать кесарево сечение. Мама знала и согласилась. Сейчас ее готовили к операции.
Мама! Я недостаточно думала о маме. Мы с ней были так похожи, а я здорова как лошадь. Я считала само собой разумеющимся… Господи, я недостаточно думала о маме, я даже не молилась толком, подожди…
— Я хочу видеть ее, — громко сказала я. Врач заколебался. — Я хочу видеть ее, — повторила я. Он взял меня за руку.
— Привет, дорогая. — Мама говорила слабым шепотом, видимо, ей дали успокоительное. — Теперь уже недолго.
Я глубоко вдохнула. «Поразительно хорошее состояние» не казалось мне ни хорошим, ни поразительным. Ее лицо стало таким маленьким, а глаза такими большими…
— О мама, — сказала я дрожащим голосом, взяв ее за руку, — хорошо бы так.
Я дошла с ней до лифта, все еще держа ее за руку. Когда я открыла дверь в комнату ожидания, сидевший там мужчина взглянул на меня и вернулся к своей газете, но я успела заметить несчастное выражение его лица и вдруг поняла, что он держит газету вверх ногами. Через минуту он отложил ее и предложил мне сигарету.
— Вы уже давно ждете? — спросила я.
— С одиннадцати. Они сказали мне, чтобы я ушел, но я не мог ничего делать, у меня все валится из рук.
Он был крупным, темноволосым и кого-то напоминал мне. Он был не так уж молод, на лбу у него начали появляться залысины.
— А кто у вас там? Сестра? — спросил он.
Я рассказала ему про маму. Как обычно, от разговора стало легче, он улыбнулся. Я вдруг с изумлением поняла, что его щеки и слегка прищуренные глаза были копией Кена. И, как ни странно, я легко могла представить себе Кена, ведущего себя точно так же, сидящего словно скала, широкоплечего, флегматичного, — пока вы не посчитаете окурки в пепельнице и не заметите, что газета перевернута вверх тормашками.