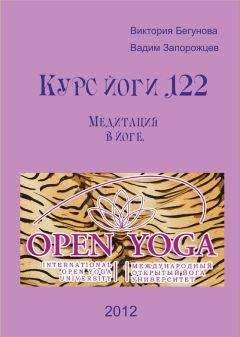какие-нибудь клонические могут быть… К черту!
– Я думаю так… Первый же метастаз попадет в лимбическую систему, где образует очаг патологического возбуждения, который многократно усилит половое влечение, – я медленно придвигался к ней с нарочито демоническим выражением лица, и закончил хрипло. – Сначала затрахаю тебя до смерти, чтоб ты в кому не впадала, а потом буду иметь твое бездыханное тело, пока сам не сдохну от истощения.
И, словно мстя за пережитое ранее унижение, взял ее за горло (шея была такая тонкая, что казалось, ее можно обхватить рукой полностью) и положил на траву. Она не сопротивлялась, только напряглась вся…
– Дурак! – сказала она после, отряхивая приставшие к влажной коже былинки. – А впрочем… такая эвтаназия меня устраивает.
– А если окажется, что ничего страшного? Что тогда? – спросил я с притворным безразличием.
– На самом деле это наилучший вариант. Я, разумеется, буду только рада.
– Ну… А мы тогда сможем быть вместе?
– Послушай, я же тебе все уже сказала по этому поводу… Ни мне, ни тебе это не будет нужно, – строго ответила она.
– Тогда я не хочу, чтобы ничего страшного.
– Какой же ты глупец! Давай пока не думать об этом?
* * *
Я проснулся от того, что ее не было рядом. Опять почувствовал это на уровне искривления пространства. Я огляделся, прислушался – как будто один на планете. Солнце поднялось уже довольно высоко и начинало припекать. Спросонок я чего-то страшно напугался, а при ярком солнечном свете напугаться чего-то особенно страшно… Вскочил на ноги.
Где она? Сбежала? Утонула? Утопилась?
Выбежал на берег. Она была там. Первобытно нагая стояла по колени в воде, вся в слепящих бликах, набирала в ладони воду и прикладывала к лицу. Я замер, любуясь ею. Потом она выпрямилась и просто стояла, глядя через реку. Ее тонкая спина, острые плечи, круглая голова были мучительно трогательны. Мне стало жаль ее, но в этой жалости не было ничего унизительного для нее, ведь мы умирали вместе… Я подошел к воде и стал, стараясь не плескать, приближаться к ней. Если она и услышала меня, то виду не подала. Я обнял ее сзади, она ничего не сказала, повернула голову, подставив губы… Мимо проплывала баржа, на мостике буксира нам кто-то замахал, заревел гудок.
Перед тем как уплыть с острова мы легли напоследок прямо на траву в тени огромной плакучей ивы. Мы были нежны и неторопливы, в какой-то момент и вовсе остановились. Мы приникли друг к другу, ощущая наши тела единым живым и горячим целым. Вдруг я почувствовал на спине как мне показалось, ледяные капли. Это не могло быть дождем, на небе не было ни облачка, да и в такую погоду дождь мог быть только теплым. Старое дерево оплакивало нас своими неожиданно холодными слезами.
* * *
Мишка передал, что куратор меня искала. Я пошел в сторону ее кабинета. И вот тут мне, наконец, стало по-настоящему страшно. Я взмолился в душе, что если только есть хоть единственный шанс из тысячи, что это не рак, то пусть он выпадет. С каждым шагом мне становилось все страшнее. Вот иду сейчас и еще ничего не знаю, а через несколько мгновений мне скажут: «У вас неоперабельная опухоль». И жизнь моя на этом кончится. Начнется подготовка к страшной смерти… Не хочу!!! К черту все! Эти совместные увядания, любовь эту на краю могилы… Лишь бы жить. Двадцать, тридцать, пятьдесят лет. И не думать, засыпая, каждую ночь, сколько еще осталось. В господа бога уверую, если надо, в монастырь уйду. Пить брошу, мясо жрать… Скажите только, что нужно сделать!
– Что это с вами? – куратор посмотрела на меня настороженно. – У вас нет ничего страшного. Киста. Доброкачественная опухоль. Попейте-ка воды, отдышитесь.
И после того, как я выполнил ее рекомендации:
– Операция сейчас не нужна. Будет беспокоить, удалим.
* * *
Памятуя свой позор возле фикуса, ей я решил ничего не говорить. Ждал, что она позвонит сама. Но она так и не позвонила… До сих пор не могу простить себе того, как предал ее по пути за диагнозом.
На четвертом курсе нас допустили к изучению акушерства и гинекологии. Кафедра располагалась на базе одноименного отделения ОКБ. Практические занятия у нас вел доцент Мочаловский – восходящее светило кафедры. Самая способность, светиться на темном фоне невежества, передалась ему, надо полагать, от родителя (профессора, заведовавшего этой же кафедрой) вместе с невероятными способностями к карьерному росту. К двадцати шести годам он уже был кандидатом наук, а через пару лет стал доцентом. Когда он просвещал нас, ему было тридцать, и он писал докторскую. Роста доцент был среднего, был смазлив, элегантен и пах дорогим одеколоном. Студенточки источали эстроген при его появлении в аудитории в разы интенсивнее, но он не снисходил до них; у него были жена и любовница – аспирантка на кафедре. Все знали о любовнице, а Мочаловский особенно и не скрывался, даже как будто бравировал этим. А аспиранточка была очень даже ничего, и накачанные тестостероном по уши студентики единодушно готовы были ей вдуть, но она их не замечала, и так же, как и он, не скрывала связь с восходящим светилом и даже, как будто, гордилась. Переглядывания, прозрачные интимные намеки при посторонних, а особенно совпадающий график ночных дежурств выдавали их с головой.
Мне этот преподаватель тоже нравился и служил примером того, как должен выглядеть и вести себя настоящий доктор. Накрахмаленный халат, обязательные сорочка с галстуком под ним, щегольская пилотка вместо банального колпака. Факт обладания двумя роскошными самками (говорили, что супруга Мочаловского также была очень красива) вызывал неконтролируемую животную зависть. Занятия он вел с явным удовольствием, в предмете разбирался глубоко, умел легко и удачно пошутить.
Когда пришло время отвести нашу группу на первые роды, он предварил экскурсию в родильное отделение короткой, но содержательной речью о чуде человеческого рождения и жреческой роли в этом процессе врача-акушера.
В родильном зале стояли три стола, занят был только один. Рожала совсем молодая девчушка, как рассказал Мочаловский, было ей всего семнадцать, и в браке она не состояла. Такие чаще всего, по его словам, оставляют детей на попечение государства. Последняя подробность мне показалось лишней и к учебному процессу отношения не имеющей. Акушерка, принимавшая роды, явно тоже была в курсе девчушкиного грехопадения. Ее приказания дышать и тужиться были полны плохо скрываемого презрения. Девчушка истошно орала, глаза ее были круглы и дики.