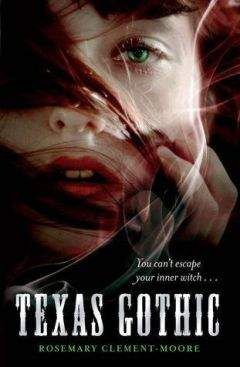Как это ни странно такая манера вести себя снискала мне репутацию воспитанного, сдержанного, лояльного работника. Я Действительно веду себя как очень приличный, Добропорядочный человек, на которого вполне можно положиться. Я не сплетничаю, никого не подсиживаю, не делаю подлостей, не подставляю ножку, то есть никому не мешаю жить. И добавлю — устраивать свои дела. При условии, если лично меня не трогают и мне не мешают. Но я, не моргнув глазом и, как писал поэт, чувств никаких не изведав, могу нанести удар — лучше всего, конечно, из-за спины или ниже пояса — если только со мною обошлись не по-джентльменски. Что поделаешь — в этом мире надо уметь и защищаться. Кстати, при этом я даже не буду менять внешне приятельских отношений с пострадавшим индивидуумом. Зачем? Пусть он пребывает в приятном неведении о том, благодаря кому у него возникли неприятности.
Мне нравится совершать откровенно благородные поступки. Таким образом я утверждаю себя как личность. Например, помочь кому-либо из попавших в беду родственников, знакомых или просто сотрудников института, уступить на лето часть своей дачи, написать диссертацию (я отличный редактор) или выбить путевку в санаторий, устроить в хороший жилой кооператив и тэ дэ и тэ пэ. Все видят, как много хорошего я делаю, но мотивы моих деяний скрыты от чужих глаз. А они, увы, не всегда чисты и благовидны, безгрешны и бескорыстны. Скажем прямо — я уверен, многие мои коллеги ведут себя точно так же. Да, возможно, я конформист, земной, обычный человек. Не вижу в этом ничего зазорного. Не всем же ходить в героях.
Почему я так откровенен — ведь это противоречит моим принципам. Ответ предельно прост — я аноним. Никто никогда не узнает моего настоящего имени и фамилии. Моя откровенность мне ничем не угрожает. А своей исповедью я хочу облегчить себе душу. В ней, к слову, заключен и нравственный урок для других. Кроме того, согласитесь, есть что-то сладостное в подобном саморазоблачении. Смотрите, дескать, вот я какой в натуральном, так сказать, виде. Впрочем не такое я уж чудовище. Бывают и хуже.
Может быть, я слишком строг к себе? Ведь сужу я себя лишь за некоторые помыслы, а не за поступки. Мало ли кто из нас чего не подумает?! Что уж мне, специалисту, лукавить, когда ребенку ясно — у честного человека мысли и дела неразделимы. Нет, я не считаю себя монстром, или просто безнравственным человеком. Любой из нас хочет казаться лучше, чем он есть. В этом нет ничего плохого. Я казню себя за каждый свой скверный поступок, за дурные мысли, невольное лицемерие, искренне переживаю чужую беду. Моя маска, «игра», мое притворство лишь защитная реакция. И не больше. Они — не моя суть. А это главное. При всех моих очевидных недостатках зло не стало нормой моего сознания и поведения.
Но были и поступки, которых я стыжусь. Пусть их не так ужас много, но были.
Ту невысокую, пухленькую, всю такую круглую, мягонькую девушку звали Ида. И характер у нее был под стать внешности — доброе, безобидное существо.
Я тоже был студентом, но старшего курса. Она мне нравилась, но не больше. И все же я смело перешел известную грань, стал ее любовником. Но не чувствовал перед ней никакой ответственности. Мне казалось, что мы оба на равных беспечно и весело участвуем в любовной игре, а потом, когда это надоело мне, нимало не смущаясь, порвал с Идой. Помню ее растерянное лицо, глаза, полные слез, жалкий лепет: «Если ты так хочешь — конечно. Я, правда, считала, что мы будем вместе». Бравируя (в душе любуясь собой) я сказал: «Не печалься, детка. Вечной любви не бывает. Найдешь другого и с ним быстро утешишься». Я гусарил, казалось себе остроумным, она плакала, мне стало тоскливо, как в пустынном осеннем парке и я, напоследок чмокнув ее в мокрую щечку, попросту сбежал. Совесть меня не мучила, Я считал, что ничем не связан с ней и вправе поступать, как захочу.
И еще. По масштабам жизни совсем пустячок. Он застрял во мне крохотной, беспокоящей совесть занозой. Случай этот никому до сих пор не ведом. Я мог бы, конечно, промолчать о нем. Однако это было бы не по правилам. Если уж взялся, надо рассказывать все.
В ту пору я заканчивал аспирантуру — до защиты кандидатской оставалось рукой подать, и я уже примеривал к себе манеры остепененного научного работника. Однажды в букинистическом отделе книжного магазина я узрел двухтомную «Охотничью энциклопедию». Каждый рубль в ту пору был для меня значительный суммой. Я долго с вожделением вертел в руках каждый том, тихонько вздыхал, прикидывая — от каких благ мне ради этой покупки придется отказаться в ближайшие Дни. И наконец решился — спросил молоденькую продавщицу, сколько с меня за двухтомник. Она мельком глянула на цену и сказала: — «Пять рублей», завернула покупку в бумагу, перевязала шпагатиком и протянула мне. Я дал ей десятку, получил сдачу и пошел к выходу.
Честно признаюсь, я не сразу сообразил, что произошло, и с зажатой в руке пятеркой вышел на улицу. Вначале даже обрадовался. Однако дома убедился, что ошиблась продавщица, она приняла штампик номера магазина на внутренней стороне обложки за цену двухтомника, цена которого на самом деле была что-то около 10 рублей.
Первым движением моим было поехать в магазин и вернуть разницу. Затем мной овладела нерешительность, какое-то подобие душевной вялости. Чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось ехать в книжный магазин. Во-первых, продавщица была не очень любезна. Во-вторых — почему я должен терять время, то есть расплачиваться за ее ошибку. В-третьих, у меня и так мало денег. В-четвертых — очевидно в магазине существует какой-то фонд для возмещения пропавших или испорченных книг. Так думал я и не поехал. Я всячески себя успокаивал и оправдывал, пытался внушить себе, что это не более как маленькая удача — вроде выигрыша в лотерею или случайность, шалость. Но, увы, в душе-то я понимал, что это была не шалость и не случайность. Это была проба совести на чистоту. И я элементарно не выдержал ее. Я, который по идее должен быть апостолом, толкователем совести.
* * *
Много лет был у меня друг — Сергей Яковлевич Николаев. Невысокий, ладненько скроенный шатен с маленьким бледным, словно у больного ребенка, лицом. Он был язвителен и беспощадно насмешлив. Не скрою, мне нравилась в нем эта черта. Он не щадил никого. За глаза, разумеется. Я лишь посмеивался про себя, когда он прохаживался на чей-нибудь счет. Мне казалось это признаком ума и независимости. Меня он никогда не трогал.
А однажды он как-то по-особенному внимательно, словно бы в первый раз увидел, посмотрел на меня, покачал небольшой аккуратно подстриженной головкой и со своей обычной кривой улыбочкой с едкой иронией сказал: