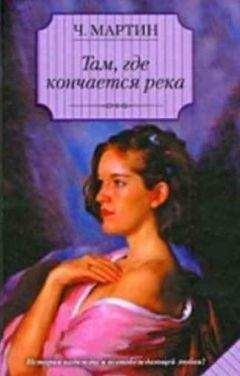В последние несколько лет я научилась прислушиваться к собственному телу. И сейчас оно говорит, что, когда ты получишь это письмо, меня не станет. Что бы там ни делал со мной рак, он свою миссию выполнил. Новые лекарства, специалисты, мнения, а также вся власть сената ничего не изменят. Остается лишь одно. И не плачь. Тебя одолевают воспоминания о маме и мысли обо мне — я вижу, как твои широкие плечи начинают дрожать. Папа, не удерживай слезы. Даже сенаторы плачут. А я… я уже взрослая. Конечно, это не мой выбор. Если бы я могла что-то изменить, предпочла бы прожить еще лет пятьдесят, научиться готовить, как Розалия, и гладить седые волосы Досса. Хотелось бы мне на это посмотреть. Думаю, он будет красив в старости.
Если ты думаешь, что Досс меня похитил, то ошибаешься. Не многие уважают тебя так, как он. Это путешествие — моя идея. У меня осталась последняя вещь, которую я могу отдать Доссу, но для этого мне нужна река. Пожалуйста, пойми. Он невероятно одарен, и я не хочу, чтобы мой подарок умер вместе со мной. Прошу, предоставь нас реке. Вспомни об этом, когда разозлишься, наймешь адвокатов и примешься строить планы. Просто оставь все как есть. Досс меня не убивал, это сделал рак. Его и вини. Если ты отправишь Досса в тюрьму, то не вернешь ни маму, ни меня. Я прожила хорошую жизнь. Теперь позволь мне хорошо умереть.
Когда я была маленькой, ты вместе со мной шел по Док-стрит на премьеру «Энни». Я боялась. В театре ты наклонился, отвел мне волосы с глаз и сказал: «Эбигейл Грейс, ты создана не для того, чтобы сидеть в зале. — Ты указал на освещенную сцену. — Ты рождена, чтобы стоять там, выше всех. Поэтому ступай на свое место». Папа, Досс во многом похож на меня. Не забывай об этом. Он многого достоин. Он нужен всем нам. А ему нужен ты. Поверь мне хотя бы сейчас.
Я оставляю тебе подарок. Но есть один нюанс. Для безопасности он хранится в душе моего мужа. Раскрой ее, и обнаружишь меня. Я отдала Доссу свое сердце много лет назад — там, куда я ухожу, оно мне не понадобится. Если ты ненадолго позабудешь о гордости и собственных страданиях, то поймешь, что вы с Доссом похожи сильнее, чем тебе кажется. И ты многому можешь у него научиться.
Я знаю, тебе тяжело это слышать. Пожалуйста, не думай, что я просто пытаюсь оставить последнее слово за собой. Я охотно передам это право тебе.
С любовью, Эбигейл Грейс».
Я вернулся домой, поднялся в студию, развернул холст и начал с самого начала. Моя жизнь с Эбби. Я раскручивал ленту, проходя каждой тропинкой до конца, а когда боль становилась слишком сильной, останавливал течение времени и нырял, рисуя то, что видел. За год я пролил больше слез, чем за всю жизнь.
Слезы на холсте.
Единственная разница в том, что я перестал рисовать мир, в котором мне хотелось бы жить. Теперь я рисую мир, в котором живу.
Сенатор начал навещать меня по выходным. Сначала он просто бродил по студии. Мы почти не разговаривали. Потом он стал расспрашивать о стиле, форме, процессе. Это были умные вопросы. Возможно, в другой жизни из него получился бы человек искусства. Наконец я поставил перед сенатором мольберт и научил рисовать углем. Получалось неплохо. Как ни странно, у сенатора нашлись свои слабости. Он терпеть не мог янки, но однажды указал на фотографию Ната Фейна и покачал головой:
— Наверное, нас всех это ждет.
Я полез в кладовку, вытащил запыленный портрет Малыша и протянул сенатору. Если фотография вызывала чувство грусти, не передаваемое словами, то картина изображала Малыша — с запавшими щеками и мешковатыми веками, — который смотрел на возведенный им дом. От него осталась одна оболочка, и все-таки он улыбался. Он еще оставался Малышом. Сенатору это понравилось. Я протянул ему и картину, и эстамп.
— Возьмите.
По его щеке скатилась слеза. Сенатор произнес:
— Однажды Эбби сказала, что совершенства в живописи не бывает, но… — он обвел рукой студию, — но ты весьма близок к идеалу.
Каждую неделю мы сидели в студии и молча рисовали. Вместе. Наверное, в Вашингтоне его порой недоставало, но сенатор всегда мог ускользнуть, когда хотел.
Прошел год.
Он провел здесь все утро. Нас не смущало общество друг друга, все внимание было поглощено красками. Молчание сделалось привычным и многое мне открыло про нас обоих. Когда наступило время ленча, сенатор направился к двери. Не знаю почему, но он вдруг решил задать вопрос, который вертелся у него на языке почти год. Сенатор указал на «Непокорную». Я закончил ее несколько месяцев назад, и теперь портрет висел в студии и смотрел на меня.
Сенатор произнес:
— Можно мне?.. Пожалуйста.
Это был знак мира с его стороны. Он простил меня. А главное, простил себя.
— Да.
Глубокий вздох.
— Точно?
— Сенатор, наше путешествие по реке не было моим подарком Эбби. Это был ее подарок мне. И я уверен, что она все придумала заранее. — Я смотрел на портрет. — Я написал эту картину не для того, чтобы удержать Эбби. Я написал ее, чтобы… освободить нас.
Смерть дочери пробила брешь в обороне сенатора Колмэна. Теперь он то и дело готов был дать волю чувствам.
— Она тебя этому научила?
Страдания напомнили мне о том, что такое красота. О том, что я знал, но забыл. О любви, которую даруют и отнимают. Чем сильнее боль, тем слаще воспоминания. Так я и жил.
Я улыбнулся.
Сенатор повесил «Непокорную» вместе с другими картинами в бывшей студии Эбби, которая теперь превратилась в мою галерею. Точнее, в нашу галерею. Мы назвали ее «галереей Эбби». Сенатор повесил эстамп Ната Фейна в ванной и рассматривал его в одиночестве, когда брился.
Интерес к моим картинам был просто ошеломляющий. К нам приезжали из Нью-Йорка. Через две недели сенатор позвонил и сказать, что за один из портретов, написанных несколько месяцев назад, предлагают шестизначную сумму. Картина изображала нас с Эбби в тот момент, когда я шел через лужайку нудистской колонии, а жена смеялась до упаду. Покупатель сказал, что лицо и смех Эбби не отпускают его. Эта картина говорила с ним.
Мне было очень приятно. Сенатор процитировал мне слова философа Людвига Витгенштейна: «О чем мы не можем говорить, о том лучше молчать». Я молчал всю жизнь. И ничего не имею против. Но теперь мои руки кричат во весь голос.
Через неделю я нахлобучил кепку, надел солнцезащитные очки и прошелся по галерее. Смешался с публикой. Никто меня не узнал. Я заговорил с дамой, которая сказала, что провела здесь четыре часа. Она приезжала сюда каждый месяц вот уже полгода. Она погладила себя по груди и сказала: «Что-то в этих картинах меня успокаивает». Я спросил, какой ее любимый портрет, и она показала. На картине были мы с мамой на скамейке у реки. Я сбросил шляпу и очки, снял картину со стены и отдал ей. Когда я уходил, она плакала. Возможно, мама была права. Возможно, некоторым людям просто нужно погрузиться и пить. Возможно, даже всем нам.