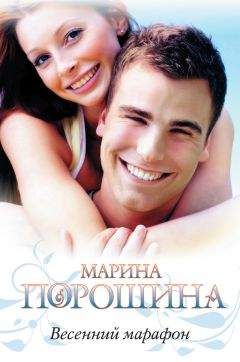— Но почему…
— Потому что это ущемляет мое мужское самолюбие. Почему женщина, которую я люблю, отдает предпочтение другому? Чем я хуже его? Ведь именно со мной она изменилась в лучшую сторону! Почему сейчас этим пользуется другой?
— Ты говоришь так, как будто бы я УЖЕ тебе изменила!
— Я надеюсь, что этого никогда не случится. А чтобы этого не случилось, никогда не надо торопиться делать глупости. Ты не пойдешь на этот день рождения. Ты будешь сидеть вот здесь, на этом диване и ждать меня. А я буду знать, что ты ждешь только меня, и буду счастлив от этого, так счастлив, как только смогу…
Все это было и жестоко, и страшно, и до дрожи несправедливо, и даже отдавало каким-то восточным тиранством, — но он держал меня на своих коленях, и проводил рукой по спине, и легонько брал губами мочку моего уха — и сердце в который раз обрушивалось в пропасть, и, плача, я целовала его и клялась, что мне больше никто, никто не нужен, и я никуда от него не уйду…
* * *
И вот однажды…
Был грустный и бесприютный осенний вечер. Холодный, каким только может быть вечер в конце сентября, когда на улице темно, на душе — нагромождение хандры и неуюта… Батареи центрального отопления еще не наполнились журчащим теплом. И в комнате не то, чтобы холодно, — но любое прикосновение к прохладной поверхности предметов заставляет испуганно отнимать руку: кажется, что они мертвы. А если одернуть штору и вглядеться сквозь чернильную синь в окна дома напротив, то сердце сожмется в ледяной кулак. От того, что теплый свет окон, где есть семья, есть жизнь, есть тепло, светит не для тебя. Нет, не для тебя. Никогда не для тебя…
И вдруг квартира взорвалась дикой трелью дверного звонка — именно дикой, потому что кто-то, и я даже не могла представить себе, кто бы это мог быть, с бешеной настойчивостью давил на кнопку, будто хотел навсегда вдавить ее внутрь. Я еще приходила в себя от этого перезвона, а неизвестный и совершенно нежданный гость, не оставляя в покое звонок, принялся пинать входную дверь. Она ходила ходуном, как живая, пока я в страхе от того, что случилось что-то ужасное, открывала ее, даже по не подумав, что следовало бы сперва накинуть цепочку.
…Мелькнули большие, темные, странно знакомые глаза, до краев налитые слезами… Узкие губы, сжатые так крепко, что превратились в одну извилистую линию… Тоненькая девушка, почти подросток, в замызганном грязью плащике, из которого она явно уже выросла, ворвалась в мой дом и, с силой оттолкнув меня, бросилась в комнату. И сразу же вернулась, глядя на меня зло и требовательно. Я догадалась, что она не обнаружила у меня кого-то, кого надеялась застать. А кого искала эта девушка, я поняла с первого взгляда на нее.
Это была Галя, его дочь. Я не видела ее шесть лет, с самого дня нашей первой и последней встречи, и за это время из неуклюжего тоненького подростка она превратилась в высокую, но по-прежнему худую девушку. И все-таки я сразу узнала ее, и ноги враз перестали меня держать.
Она ошпарила меня презрительным взглядом. Не разуваясь, не раздеваясь и не спрашивая разрешения, прошла на кухню, отвернул кран с холодной водой, достала из шкафа стакан, сунула его под струю. Воду пила торопливо, шумными большими глотками, проливая ее себе на грудь и рукава. Один стакан, другой…
Потом снова подняла на меня заплаканные глаза.
— Я все знаю! — закричала она истошно и как-то сразу, вдруг. — Папа изменил маме! Папа, который был во всем примером для меня! Ни за что в жизни не поверила бы в это! Никогда! И думать бы не смогла, что такое может случиться, если бы сама мама мне об этом не сказала! Да!!! Мама тоже все знает! Это же подумать страшно, каково ей теперь: двадцать лет совместной жизни, все беды и невзгоды пережиты вместе, столько пройдено пути… и, вдруг… измена!!! Предательство! Я знаю, на кого он променял ее — на вас! Это… это ужас! Вы не стоите и маминого мизинца, понимаете — не стоите!!! Никогда, никогда я не прошу ему этого!!!
Стакан, который Галя до этого машинально крутила в руке, полетел в мою голову — я еле успела уклониться, снаряд пролетал в сантиметре от моего виска, я даже почувствовала, как его обдало ветерком.
Не похоже было, что девушка пришла требовать от меня оправданий или объяснений. Если бы у меня и было желание что-то сказать, то Галя не дала бы даже вставить слово: она плакала, стоя у раковины и совершенно по-детски размазывая слезы по худенькому личику, и в перерывах между рыданиями вставляла отрывистые фразы:
— Не могу, не могу, не могу поверить!!! Мой папа! Я его так любила! Всегда! С папой у меня особые отношения! Я всегда, с самого детства, во всех спорах между ним и мамой была на его стороне! Я чаще ссорилась с мамой, а с ним — никогда! И он предал меня! Предал! И меня! И брата! И маму! А мама этого не заслужила! Получается, что в этом мире нельзя верить никому!!! Нельзя никого любить всем сердцем, посвящать ему свою жизнь! Да!!! И я сейчас хочу умереть!!!
— Чего ты хочешь от меня? — спросила я, не в силах больше слушать это. Стыд жег меня изнутри.
— Чего я хочу?! Да объяснений, если можно. Если вы снизойдете до объяснений! Почему так происходит? И как этого избежать? И как могли вы — вы!!! — так поступить со всеми нами? Что я сделала вам плохого? И зачем вам нужен мой отец? Хотя нет, я понимаю! Вам уже далеко за тридцать, последний шанс, да? Но причем здесь мой папа?!
— Галя, то, что ты говоришь — это очень жестоко…
Она задохнулась от возмущения:
— Это вы-то, вы-то будете говорить мне о жестокости?! Да кто вы вообще такая? Подлая, наглая баба, которая думает только о себе! Ведь это подлость, неужели вы этого не понимаете? Подлость наипакостнейшая! Что вы испытываете сейчас, глядя, как я тут плачу перед вами, вот скажите, что? Вы торжествуете?!
— Галя… Я знаю, у тебя есть все основания мне не поверить, но сейчас я не чувствую ничего, кроме стыда, ощущения собственной ничтожности и презрения к себе…
— Врете! А если не врете, так поделом вам. И живите с этим грузом до самой смерти. Я даже желаю вам как можно дольше не умирать! Желаю вам жить до ста лет! И все сто лет, и даже больше — нет!! — сто пятьдесят лет видеть постоянные измены, скандалы, предательство, ложь! Каждый день! И пусть вам будут каждый день срывать почтовые ящики, и пусть сожгут вам лицо серной кислотой, и подожгут дверь, и обкрадут квартиру, и… — она замолкла, не в силах придумать, какой еще карой можно поразить меня. И вдруг, моментально потеряв силы, села на пол и заплакала горько, навзрыд, совершенно по-детски…
— Галочка… — сказала я, чисто инстинктивно потянувшись приласкать ее, как ласкают маленького, потерявшегося в большом и страшном мире взрослых людей, ребенка.