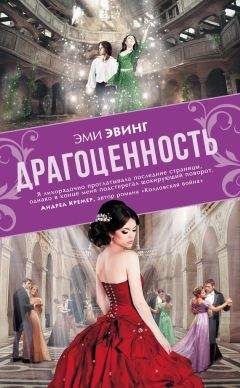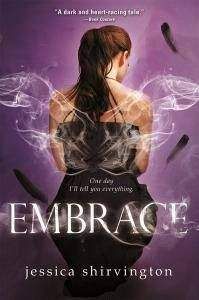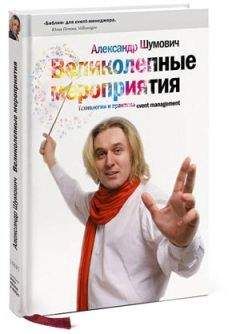Люсьен кладет руку на мое плечо.
– Все в порядке. Я обещаю, тебе понравится то, что ты увидишь.
Он подводит меня к какому-то объемному предмету, задрапированному тканью, который стоит на подиуме в углу. Люсьен жестом предлагает мне подняться на подиум. Мои ноги все еще дрожат.
– Может, ты хочешь сначала закрыть глаза? – спрашивает он.
– А это помогает?
– Иногда.
Я киваю и крепко зажмуриваюсь. В темноте опущенных век я вспоминаю, когда в последний раз видела собственное отражение. Мне было двенадцать. На комоде в комнате, которую мы делили с Хэзел, стояло зеркальце, и перед ним я расчесывала свои волосы. У меня было худое и невыразительное личико. Нос, щеки, брови, губы, кончик подбородка – все было каким-то маленьким и узким. Все, кроме моих глаз. Огромные, фиалкового цвета, они, казалось, занимали пол-лица. Но эти воспоминания слишком далекие; они как письмо, зачитанное до дыр, так что и слов уже не разобрать.
Легкий порыв воздуха, шелест ткани.
– Как только будешь готова, можешь открывать глаза, – говорит Люсьен.
Я задерживаю дыхание и прислушиваюсь к стуку своего сердца. Я справлюсь. Я не испугаюсь.
Я открываю глаза.
И оказываюсь в окружении трех одинаковых женщин. Одна смотрит прямо на меня, другие две стоят по обе стороны. Ее лицо не назовешь худым, разве что подбородок заострен. Щеки округлые, губы полные и слегка распахнуты от удивления. Черные волосы рассыпаны по плечам. Но ее глаза… они в точности такие, как я их помню.
Она незнакомка. И она – это я.
Я пытаюсь примирить эти две мысли, и, поднимая руку, чтобы коснуться своего лица, начинаю смеяться. Я ничего не могу с собой поделать. Девушка в зеркале повторяет мои движения, и почему-то я нахожу это забавным.
– Необычная реакция, – говорит Люсьен, – но это лучше, чем крик.
Я вздрагиваю.
– Некоторые девушки кричат?
Он поджимает губы.
– Что ж, у нас не так много времени. Давай готовиться. Пожалуйста, садись.
Он жестом указывает мне на кресло возле столика для макияжа. Я бросаю последний взгляд на незнакомку в зеркале, спускаюсь с подиума и присаживаюсь за туалетный столик. Здесь столько всяких тюбиков, кремов, пудры, и я ума не приложу, для чего все это нужно, и не многовато ли этого для одного человека. На маленькой полочке над столом стоят три фигурки песочных часов, все разных размеров и с песком разных цветов.
Люсьен опускает руки в тазик с душистой водой, потом обтирает их пушистым белым полотенцем. Очень осторожно, он переворачивает первые песочные часы, самые большие, с бледно-зеленым песком.
– Что ж, приступим, – говорит он.
Всякий раз, когда я представляла себе подготовительный процесс, мне казалось, что это единственная радость на Аукционе. Подумать только, кто-то будет делать тебе прическу, макияж и все такое – ну не здорово ли?
На самом деле это невероятно скучно.
Я не вижу ничего из того, что делает Люсьен, за исключением маникюра и полировки ногтей на ногах, или когда он покрывает меня с головы до ног мельчайшей серебряной пылью – для этого я должна раздеться, но, как только процедура заканчивается, я быстро накидываю пеньюар. По большей части, я просто сижу в кресле. Мне интересно, как дела у Рейвен, кто готовит ее. Должно быть, она уже закипает от злости.
– А где же другие подготовительные комнаты? – спрашиваю я, пока Люсьен наносит тонкий слой полупрозрачной пудры на мои шею и плечи.
– Все на этом этаже или этажом ниже, – отвечает он и хмурится, замечая какой-то изъян на ключице.
– А когда откроется Аукцион? – Я надеюсь, что мой вопрос звучит непринужденно.
– Он уже начался.
Для меня это как удар под дых. Я не знаю, как долго я была без сознания, и понятия не имею, сколько сейчас времени.
– И давно?
Люсьен смешивает какие-то порошки на маленькой палитре.
– Давно, – спокойно отвечает он.
Мои пальцы впиваются в кожаные подлокотники кресла, и я стараюсь не морщиться, но в голове бьется настойчивая мысль: Лили уже продана.
Лили ушла.
– Сейчас я буду работать с твоим лицом, – говорит Люсьен. – Постарайся не шевелиться. И закрой глаза.
Он словно делает мне маленький подарок – возможность закрыться от мира и побыть в темноте. Я думаю о своей матери, о Хэзел и Охре. Я вижу наш дом и маму, которая вяжет у огня. Охра на работе. Хэзел в школе. Интересно, нашла ли она мой лимон.
Я думаю о Рейвен, вспоминаю, как мы впервые встретились. Ей было тринадцать, и она уже год как находилась в Южных Воротах, но все проваливала экзамен по Заклинаниям (нарочно, как она потом призналась). Я училась первому Заклинанию, на цвет, и она была в моем классе. Я безуспешно пыталась превратить свой голубой кубик в желтый – обучение начинают с одного кубика, и ты не можешь перейти на другой уровень, пока не справишься с первым заданием. Я никак не могла понять, чего от меня хотят. И не представляла, как я должна изменить цвет. Рейвен помогла мне. Она научила меня управлять сознанием, видеть результат раньше, чем он будет достигнут, и это она держала для меня ведерко, когда я кашляла кровью. Она давала мне свой платок, чтобы остановить носовое кровотечение, и показывала, как надо ущипнуть горбинку носа, чтобы не текла кровь, подбадривала меня, уверяя, что скоро станет легче. У меня кружилась голова, и ломило все тело, но к концу дня мой кубик стал желтым.
Я не знаю, что Люсьен делает с моим лицом, и надеюсь только, что после всего этого смогу себя узнать. Слой за слоем он наносит краски и пудры на мои щеки, губы, глаза и брови, даже на уши. Особенно долго он колдует над моими глазами, используя мягкие порошки и холодные кремы и что-то толстое и твердое, как карандаш.
– Готово, – говорит он, наконец. – У тебя невероятное терпение, 197.
– Что дальше?
– Волосы.
Я смотрю на песочные часы. Крошечные струйки зеленого песка постепенно заполняют нижнюю колбу. Пальцы у Люсьена нежные и ловкие; горячими щипцами и паровыми бигуди он пытается укротить мои волосы. Хорошо бы не увидеть себя лысой после таких экзекуций. А может, мне и не придется смотреться в зеркало. Может, меня сразу отправят на Аукцион.
От этой мысли мне становится не по себе.
– Могу я задать тебе вопрос, 197? – тихо говорит Люсьен. Я злюсь оттого, что он называет меня по номеру.
– Конечно.
Пауза длится так долго, что я начинаю думать, не забыл ли он, о чем хотел спросить. Но вот, голосом чуть громче шепота, он произносит:
– Ты хочешь такую жизнь?
Я цепенею. Чутье подсказывает, что этот вопрос под запретом в Жемчужине, его не то что вслух, даже в мыслях задавать опасно. Кого волнует, чего хотят суррогаты? Но Люсьен спрашивает меня. И я думаю, что, возможно, ему было бы интересно узнать и мое имя.