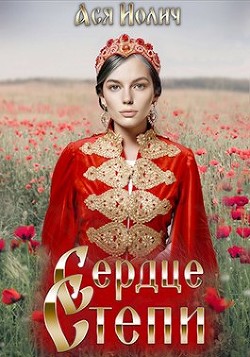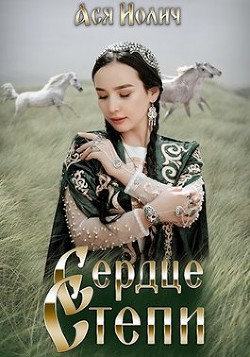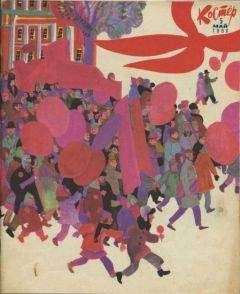пальцах мерцали в бликах огней, расшитый золотыми узорами халат сиял. Любимчик? Похоже на то. Тогда понятно, почему он спокоен после склоки с братом. Ул-хас не даст любимого сына в обиду. Немногим средним сыновьям удаётся заполучить любовь отца, особенно когда рядом деятельный, бодрый старший брат.
Зал немного плыл. Коварный быуз! Коварный. Надо заканчивать это дело. Поговорить с Аслэгом, принять решение и вытаскивать Кам. Последнее её письмо было совсем невесёлым, в нём сквозила такая тоска, что даже между её сухих, деловито подогнанных строчек это читалось без труда. Кам… Девочка. Скучает тут, в голом огромном поле.
Ул-хас тяжело поднялся, опираясь на руку Бакана, и встал. Двое дюжих слуг подхватили его под руки, но он отмахнулся, пошатнулся и зашагал к выходу. Музыка стала тише, Свайр встал, тоже пошатываясь, и под присмотром слуги побрёл к дверям, успев бросить жалобный, тревожный взгляд на Руана.
Хасэ покидали зал, гулко хохоча, рыгая и перешучиваясь. Руан откинулся на стену. Хмельное сидело в желудке, но, как только он встанет, оно поднимется вместе с ним, к голове, и будет худо.
- Господин, помочь тебе встать? - Подскочивший к нему слуга протянул руки.
- Сам. Сам. Вот этого прибери. Давно уже храпит.
Слуга махнул рукой, и с помощью ещё двоих выволок Архыра в двери. Туда ему и дорога… Холод отрезвит.
Закопчённые росписи колонн, изображавших опорные столбы, тихо освещались отблесками очага. Руан встал, и быуз плеснул в голову. Чёрт. Плохо. А завтра будет ещё хуже.
Свежий морозный воздух студил лицо. Факелы расплывались. Чёртовы хасэ. Чёртова степь. Клятый быуз. Ох, подкатило...
Он с омерзением выпрямился, вытираясь платком, над канавой, дошёл до колодца, прополоскал рот, прогоняя омерзительный привкус, и выстирал платок в ледяной воде. Сушёная мента, скатанная в шарик с лимонными корками и парой трав из долины, освежала рот. Кто-то из ребят Харана шёл позади, шатаясь, с приятелем, они пели песню и смеялись, пьяно и весело, рассуждая о пригожих девчонках. Песня была похабной. Рикад бы сморщился и сказал: «Фу, как это грубо».
Ворота внутреннего города стояли открытыми, и слуга, следивший за тем, чтобы никто посторонний не проник за пределы ограды, тоже явно принял стаканчик для тепла. Вот черти! Любой повод подойдёт, чтобы нажраться. Отец Тан Дан укоряет тех, кто поднимает нетрезвый взгляд в его ладонь, но по праздникам можно. А ещё в подвалах, где, как взгляд не поднимай, неба не увидишь. Отличное решение.
Свайр, чья огромная шапка из овчины маячила в соседнем переулке, громко спорил с кем-то из воинов о целесообразности изгиба клинков кутарских мечей, предлагая не сходя с места доказать на деле их превосходство над прямыми клинками степняков. Руан почти совсем уверенно шагал, отплёвываясь от размокшей менты, потом зачерпнул снега с ограды и протёр лицо. Внешние ворота плыли навстречу, и быуз слегка разжимал свои объятия.
Лошадь Харана стояла у забора, мешок с его кожаным доспехом, стёганым поддоспешником и вещами валялся рядом. Руан пощупал его, наткнулся рукой на ножны и удивлённо хмыкнул. Так к жене спешил, порадовать, что меч кинул...
В большом шатре было пусто, только плавала в отваре раскисающая почма. Он оставил мешок у стены. Завтра заберут. Зачем их сегодня тревожить? Постели были прибраны, несмяты, и Руан снова хмыкнул, гадая, где может быть Рикад. Рикад, кетерма… Так Кам подставил… Такое не забыть. Блудливый сын скейлы…
Он вышел наружу. Голову вело. От соседней стоянки слышалось ржание лошади, Ашна за шатрами тоненько заржала в ответ. Над шатром Харана поднимался дымок очага, но было тихо. Спят…
- Ах!
Восклицание было негромким. Руан оцепенел. Голос Аулун… Оно доносилось из шатра Аулун! Кровь прилила к голове, и он рванулся вперёд. Рикад, скейла, кетерма! К ней полез!
- Убью, кеймос! - крикнул он, распахивая дверь и откидывая полог.
Она стояла, испуганно глядя на него, в распахнутом нижнем платье, держа в руке оторванную завязку, волосы густыми волнами, блестя, падали по плечам вниз, до бёдер, прикрывая и не прикрывая снег, землянику, бархат и лепестки сливы, ворох осенней листвы и родинку прямо над ним, завершающую недосказанность троеточия, правее и на ладонь ниже нежной ямки пупка.
- Господин… - Золотой ачте лился на него, обжигая, мёд вязко манил, бархат мерцал в бликах огней. - Господин желает…
Руан шумно, со стоном, выдохнул и шагнул вперёд, в свою тьму и к её золотому свету, ужасаясь этому шагу, но некому было остановить его, некому, и ужас сменился, смытый, смятый, повергнутый, бархатом под шершавыми ладонями, розовой земляникой между зубами и языком, сладким и солёным ягодным мороженым под согревающими его губами, и алчные, жаждущие, ненасытные пальцы мяли, впивались, тонули в осенних листьях, что пахли не осенью, а летом, сминали розовые лепестки сливы, торопливо касались пылающих ушей. Жемчужная шея выгибалась под обветренными губами, а снег был мягким, податливым и тёплым, и всплески золота из-под дрожащих ресниц над пылающими щеками, над приоткрытым ртом, не давали остановиться, замедлиться, заставляли пальцы дрожать и сжиматься сильнее, впиваться в белый бархат, стискивать тонкие нежные ладони, вдыхать её восклицания, срывая их с розовых губ, находить и терять путь в этом бархатном великолепии, на обрывках порванного впопыхах нижнего платья, во тьме, в золотом свете, в её дыхании и стонах, в черноте ночи, рассветном тумане и каплях опаловой росы на роскошных осенних листьях. Она принадлежит ему, только ему, и будет принадлежать ему отныне, с этой ночи, но ночь ещё не закончилась, желание ещё не иссякло, и раскосые глаза цвета древней смолы блестят рядом, отражая оранжевые языки пламени, а три точки - лишь передышка, перерыв, но не конец, нет, нет, ещё не конец.