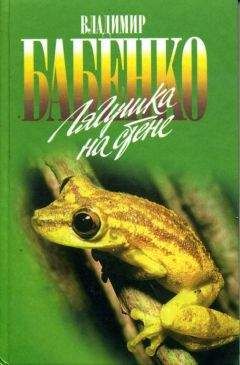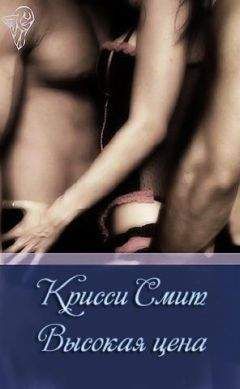– Я же тебя просил, – мягко сказал Андрей, – не надо было их звать. А ты? Вот захотелось тебе. Зачем? Тебе что, скучно со мной? Кто они тебе? Никто. И не увидишь никогда, если не захочешь.
– Нехорошо получилось, – Анна все оглядывалась, будто чья-то тень повисла, зацепившись, и осталась в комнате. – Ушли вдруг, даже чай не попили. А Ларочка… Какая девочка странная. Что она такое говорила?
– Больная девочка, сама видишь, – тихо сказал Андрей. Он провел пальцем у нее под носом. – Ты что, плачешь?
Анна невольно рассмеялась:
– Проверяешь, как маленькую. И не собиралась вовсе.
Анна тепло прижалась к нему.
– Хочешь? – шепнул Андрей.
Стараясь продлить опасно вскипающую остроту, подходя и отступая, нащупывая и пугаясь дрожащих точек наслаждения, вдруг не удержались на краю, оба рухнули, слились в одно целое.
– А-а… – обессилеíно простонал Андрей, целуя ее теплое плечо.
Андрей быстро уснул, глубоко и покойно дыша. Анне мешал непривычный свет из окна, неровно срезанный полукруг пушистого солнца.
«Шторы бы задернуть», – нежась и ленясь, подумала Анна, зная, что все равно не встанет, даже пошевелиться неохота.
«Спит как крепко», – Анна улыбнулась, и Андрей, еще не отделившийся от нее, ощутил ее улыбку и во сне потерся влажным ртом об ее плечо.
Надо же, божья коровка ползет по спине, а он хоть бы что. Щекотно же. Сколько их! Такой год, год божьих коровок… Двустворчатая красная спинка распалась. Выпростались черные, жесткого шелка крылья. Божья коровка взлетела и сухой горошиной стукнулась о стекло.
Тогда… Тогда тоже был год божьих коровок.
И вдруг толпа людей с густым пчелиным жужжанием со всех сторон окружила Анну.
– Мы с вами знакомы, не помните? – неуверенно спросил Илья. Но он тут же исчез, озабоченно хмурясь и ища кого-то в тесной толпе. Тикают часы, да нет, это, вздрагивая, постукивают колеса электрички. Куда она едет? Как хорошо, едет себе и едет.
Анна неясно увидела хрупкую девушку. Она сидела, тихо раскачиваясь, сложив ладони вместе, зажав их между колен. Слабые ноздри маленького носа слиплись, девушка дышала полуоткрытым ртом. Она вдруг подняла глаза, огромные, обременительно-тяжелые для ее лица. Илья посмотрел на нее бегло, равнодушно. Было ясно, что девушка эта ему ни к чему.
– Наташа, – прошептала девушка.
– Наташа, – повторил парень с тяжело разросшимся подбородком из желтого полированного корня и засмеялся.
«А-а… так это Наташа, – вспомнила Анна, выплывая из неглубокого омута сна. – Да-да-да, я все помню. Там где-то должен быть еще Сашка. Только вот втерлась эта рыжая с бутылкой кефира на голове. Сидит и не уступает место».
– Покажи колечко, – сказал парень с деревянным подбородком.
– Смотри, не урони, – Наташа легко спустила с пальца кольцо, вздрогнувшее бледным аметистом. Глаза у нее такого же цвета. Или у нее вместо глаз камни? Кольцо было совсем тонкое, и нетрудно было представить, какие хрупкие кости держат ее рано остановившееся в росте полудетское тело. Парень с полированным подбородком взял кольцо, оно туго наделось на его гладкий, деревянный палец.
– А я вас узнал, – сказал Сашка Анне глуховато и быстро. – Это вы. Я вас видел на той неделе. Вам в глаз попала соринка. – У него был твердый светлый взгляд. – Тут главное – обязательно тереть к носу. А я вам не сказал.
– Навеки обручились, – прошептала Наташа, опуская голову. – Он так обещал…
– Уж так сразу и навеки! Обещал! Обручились, как же, – хохотнул Лапоть, на четвереньках вылезая из-под лавки, весь в пыли и мусоре.
– Отдай кольцо, – заплакала Наташа, рука ее уже была полна крупных аметистовых слез.
За это время деревянный подбородок парня прирос к раме окна.
– Видишь, и кольцо приросло.
– Мылом надо намылить, – гулко сказала рыжая с бутылкой кефира на голове. Грудь ее жидко качнулась. В лифчике она везла квашеную капусту в рассоле, мелькнула красная клюковка. – Без мыла не снять.
Не плотней быстрого облака проскочила бледная Ларочка. Тонкие пальцы ее обиженно раскачивали и дергали длинную паутину, протянувшуюся через весь вагон.
«Зачем мне эта девочка?» – затосковала Анна.
Люба-Любаня, остервенело разрывая грудью паутину, тянулась к Ларочке. «Уедем, уедем, все куплю, – шептала Люба-Любаня. – Нет, нет. Боже мой…»
– А-а… – завыл парень, и его деревянный подбородок наискосок треснул. – Пусти, падло, руку сломаешь!
Сашка крепко ухватил парня за руку и стянул кольцо с его пальца, похожего на сучок. Анна увидела Сашкин профиль, сложенный из простых чистых линий. «Он похож на древнего грека, – подумала Анна. – Из музея. Похоже, что мраморный».
– Возьмите же, девушка!
Граненые слезы со стуком посыпались из Наташиной ладони.
– Встретились, встретились, но не знакомы, – высунулся откуда-то Лапоть. – Думаешь, ты ее спасешь? Фиг-то!
Но Сашка не слышал его.
– Я тогда не подошел к вам. У меня не было чистого носового платка, – проговорил Сашка, не сводя с Анны напряженного взгляда.
Зачем он повис над станцией? Ну да, «Заветы Ильича», мне тут сходить. И Наташа рядом висит. Ноги какие тонкие, наверное, ей трудно висеть. А кольцо блестит.
«Висит рядом и даже спасибо не сказала, – вдруг обиделась Анна за Сашку. – А он такой, вечно с ним всякие истории…»
Тут из-за круглых станционных часов выплыл Лапоть. Он хамовато улыбнулся и попробовал боком пристроиться около Сашки. Но Сашка оттолкнул его, и Лапоть провалился сквозь плоскую станционную крышу.
– Фу, противная! – Анна по пояс приподнялась из марева сна и стряхнула с руки терпеливо ползущую божью коровку.
Надо же, сколько их! Кто их так окрасил? Нет, Господь Бог не мог сотворить их столько разных и всяких. Он им просто разрешил: придумывайтесь сами, как хотите. Все равно… И снова этот навязчивый пчелиный рой. Лапоть, Люба-Любаня, девочка эта, Ларочка… Их ведь не было тогда, когда я Сашу встретила, зачем они лезут?
В тот день мне в глаз попала соринка. Сашка ушел и дверь за собой закрыл. А Наташа все висит над станцией. «Такие как раз и любят сниться, – в дремотной досаде, уже совсем засыпая, подумала Анна. – Делать им нечего!»
– Мамочка, мамочка моя, – восторженно закричал Славка. – А подарки где? В сумке? Все тут? А больше нет?
Анна едва успела поцеловать его в солоноватый глаз, а Славка уже возился с большой яркой коробкой, дергая бечевку и только туже затягивая узел.
Щека матери была прохладной и вялой. Вера Константиновна отстранилась, как показалось Анне, даже отчужденно.
«Плевать, – подумала Анна. – Все равно не угодишь, вечно она недовольна».