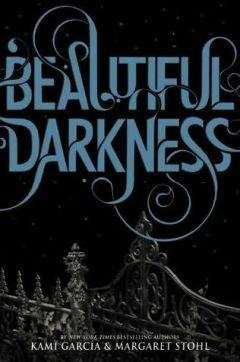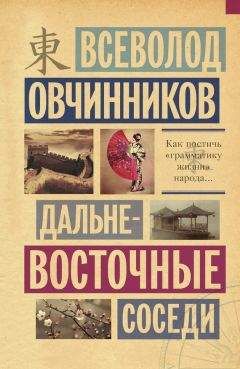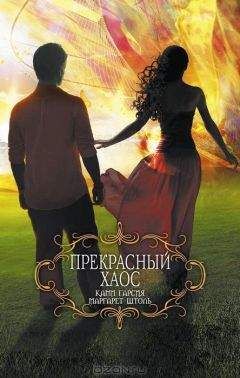Пусть им не нравилась сама Лена, но их одолевала жалкая страсть к чужому несчастью. А я почти что монополизировал рынок несчастья. Я был более чем несчастным; более раздавленным, чем расплющенный сэндвич с говядиной, оставленный на подносе в школьной столовой. Я был одинок.
***
Однажды утром, примерно неделю спустя, я услышал где-то на краю сознания странный звук вроде трения или царапания иглой старой пластинки, или звука рвущейся бумаги. Я сидел на уроке истории, и мы говорили о Реконструкции, особенно скучном времени после Гражданской войны, когда Штаты были вынуждены объединиться в одну страну. Но в гатлинском классе эта тема была скорее постыдной, нежели наводящей уныние, — она была напоминанием о том, что Южная Каролина была рабовладельческим штатом, и что все мы находились на неправой стороне. Мы все знали об этом, наши предки оставили нас с неизменной неудовлетворительной оценкой в национальном нравственном табеле успеваемости. Такие глубокие раны всегда оставляют шрамы, как бы вы ни пытались исцелить их. Мистер Ли все так же монотонно бубнил, сопровождая каждое предложение тяжким вздохом.
Я пытался его игнорировать, когда почувствовал, что что-то горит, возможно, перегревшийся двигатель или зажигалка. Я осмотрел класс. Запах исходил не от мистера Ли — наиболее частого источника всевозможных мерзких ароматов на моих уроках истории. Казалось, никто больше ничего не замечал.
Звук становился всё громче, превращаясь в беспорядочный шум разрушения — грохота, разговоров, крика. Лена.
Ли?
Ответа не было. Сквозь шум я услышал, как Лена бормочет строки стихотворения, и совсем не такого, какое можно отправить кому-нибудь на День Святого Валентина.
Не отвергающий, но тонущий…
Я узнал стихотворение — дело плохо. Лена, читающая Стиви Смита, была всего в одном шаге от мрачнейшей Сильвии Плат и дня в стиле ее романа «Под стеклянным колпаком». Это был Ленин тревожный сигнал, подобный тому, как Линк, слушающий Дэд Кеннедис, или Амма, шинкующая овощи для фаршированных рулетов своим мясницким ножом.
Держись, Ли. Я иду.
Что-то изменилось, и пока оно не успело поменяться обратно, я схватил учебники и бросился бежать. Я был за дверью еще до того, как мистер Ли произнес свой следующий вздох.
***
Рис даже не взглянула на меня, когда я вошёл в дверь. Она указала на лестницу. Райан, младшая из кузин Лены, грустно сидела в обнимку со Страшилой на нижней ступени. Когда я взъерошил ей волосы, она приложила палец к губам:
— У Лены нервное расстройство. Мы должны вести себя тихо, пока бабушка и мама не придут домой.
Это было преуменьшением.
Дверь была чуть приоткрыта, и когда я толкнул её, петли заскрипели, будто я входил на место преступления. Комнату словно перевернули вверх дном. Мебель была перевёрнута, разломана или вовсе отсутствовала. Вся комната была усеяна страницами из книг — клочки изорванных страниц покрывали все стены, потолок и пол. На полке не осталось ни одной книги. Это напоминало взрыв в библиотеке. Некоторые из обуглившихся страниц, сваленных в кучу на полу, ещё дымились. Единственное, чего я не видел, — Лену.
Ли? Где ты?
Я внимательно осмотрел комнату. Стена над её кроватью была покрыта не цитатами из любимых Леной книг, на ней было нечто иное.
Никто мёртвый — Никто живущий
Никто не сдается — Никто не дает
Никто не слышит — Никто равнодушный
Никто не боится — Никто мимо пройдет
Никто мне не близок, Никого нет в руках
Ничего не известно,
Остался лишь прах.
Никто иНикто. Одним из них был Мэйкон, так? Мёртвый.
А кто был вторым? Я?
Вот кем я теперь являюсь? Никем.
Неужели всем парням приходится прикладывать такую же массу усилий, чтобы понять своих девушек? Распутывать запутанные стихи, написанные повсюду на стенах маркером, разгадывать трещины на потолке?
Остался лишь прах.
Я стер рукой последнее слово.
Потому что всё, что осталось, не было прахом. Должно было быть нечто большее — большее для Лены и для меня, большее для всего. Это был не просто Мэйкон. Моя мама умерла, но, как показали несколько последних месяцев, какая-то её часть осталась со мной. Я всё больше и больше думал о ней.
Выбери Призвание сама. Это было послание моей мамы для Лены, написанное номерами страниц книг, разбросанных на полу её любимой комнаты в доме Уэйтов. Её послание для меня не надо было писать нигде ни цифрами, ни буквами, ни даже снами.
Пол Лениной комнаты отчасти напоминал кабинет в тот день — здесь тоже повсюду лежали книги. За исключением того, что эти книги лишились своих страниц, что означало послание совсем иного рода
Боль и вина. Это была вторая глава книги, которую дала мне тетя Кэролайн, — книги о пяти стадиях скорби, или сколько их там должно быть. Лена уже прошла стадии шока и отрицания — первых двух, так что я должен был предвидеть, что будет дальше. В ее случае, видимо, это означало уничтожение того, что она любила больше всего, — книг.
По крайней мере, я надеялся, что происходящее означало именно это. Я осторожно обходил пустые обгоревшие обложки книг. Я услышал приглушенные всхлипывания.
Я открыл дверь стенного шкафа. Она съёжилась в темноте, прижав колени к груди.
Всё в порядке, Ли.
Она взглянула на меня, но я не был уверен, что она меня видит.
Все мои книги говорили его голосом. Я не могла заставить их замолчать.
Ничего. Теперь всё в порядке.
Я знал, что так не будет продолжаться вечно. Ничто не было в порядке. Где-то по пути между злостью, страхом и страданием она свернула за угол. Я знал по опыту, что возврата не было.
***
Бабушка, наконец, вмешалась. На следующей неделе Лена вернётся в школу, нравится ей это или нет. Её выбор заключался между школой или тем, о чём вслух не говорят. Синие Горизонты, или как это там называется у Магов. А до того времени мне разрешалось видеть Лену только тогда, когда я приносил ей домашнее задание. Я устало тащился до самого её дома с пакетом из Стоп энд Стил, полным бессмысленных рабочих тетрадей и тем для сочинений.
За что? Что я такого сделал?
Думаю, мне нельзя находиться рядом с кем-то, кто меня перевозбуждает. Так сказала Рис.
И я тебя перевозбуждаю?
Я уловил что-то вроде улыбки, появляющейся в моем подсознании.