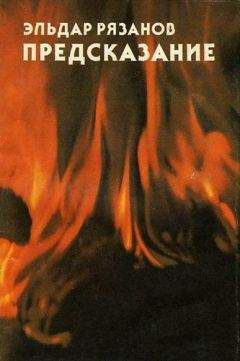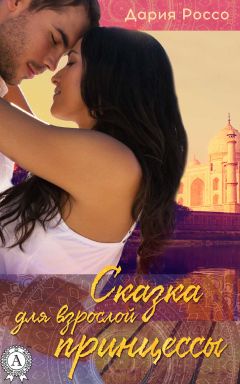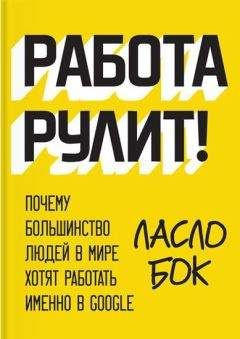— К Ленинграду управлюсь…
И действительно, когда подъехали к Ленинграду, весельчак был уже на том свете. Этот самый палач, конечно, понимал, что мы про него знаем, но он всегда делал вид, что никогда нас не встречал. И мы, проводники, тоже делали вид, что этого пассажира видим впервые. Страшно было. Помалкивали в тряпочку. Ты — первый, кому я об этом рассказал…»
Я слушал рассказ проводника и трезвел от каждой его последующей фразы. Я вспомнил лицо отца в гробу, такое несвойственное ему выражение испуга. Неужели его убили? Сходилось многое: Бологое, попутчик, который не пьет на работе, медицинское заключение о причине гибели… И последняя фраза отца: «Не волнуйтесь, доктор. Я в полном порядке». Но как узнать точно? Отец не был политиком, не был членом партии и вообще «не был, не состоял, не участвовал». Технарь, инженер… И карьера не Бог весть какая… За что его надо было приговаривать к смертной казни, да еще и секретной? То, что эти убийства были организованы бериевской охранкой, было ясно и бритому ежу. Может, отец знал что-то такое, чего не следовало ему знать? Может, он ненароком прикоснулся к какой-нибудь подлой государственной тайне?.. Как теперь это обнаружить?
Ну, раньше, в 38-м, хватали всех подряд, у них план был по арестам, который следовало выполнять и перевыполнять. А тут-то за что?
Проводник ушел, а я метался всю ночь в полупьяном и полусонном кошмаре, пытаясь ухватить какую-то нить, найти что-то существенное, что поможет свести все воедино, но это нечто ускользало, логика не слушалась, мысли путались. Кажется, я во сне плакал пьяными слезами и от горя, и от собственной тупости, и от бездонного бессилия. И вдруг меня осенило, о чем я должен спросить проводника. Уже под утро я заснул каким-то хриплым, отчаянным сном. А когда меня разбудил стук в дверь — поезд подходил к Ленинграду, — я вдруг осознал, что забыл то важное, что пришло ко мне во сне. Состояние и душевное, и физическое было во всех смыслах рвотным. Меня мутило, и не знаю, от чего больше. Я уныло побрел к выходу, проследовал мимо проводника, который сделал вид, что не узнает меня, и поплелся по перрону, обгоняемый бодрой и деловой элитой. И вдруг я вспомнил. Мне показалось, что я побежал обратно к своему вагону, но, вероятно, слово «побежал» было преувеличением. Проводника около дверей уже не было, так как все пассажиры покинули вагон. Я нашел его в одном купе, где он сдирал с полок грязное постельное белье.
— Слушай, а как он выглядел, этот самый палач? — хрипло спросил я.
— О чем вы? — Проводник встал ко мне спиной, продолжая выдергивать одеяло из пододеяльника. Ночью мы с ним разговаривали на «ты».
— Ну, ночью ты мне рассказывал о человеке, который убивал…
— Слушай, ты, — он повернул ко мне оскаленное лицо, — запомни: я тебе ничего не рассказывал, понял?
Я взбесился и перестал что-либо соображать. Защелкнув дверь купе, я схватил проводника за горло.
— Говно, трус, подонок, — цедил я, — если ты не скажешь мне, как он выглядел, я тебя придушу, суку…
Больше я не успел ничего сказать. Проводник, хотя ему было уже с полсотни, оказался парень не промах и нанес мне точный удар в челюсть, от которого я свалился на пол. Потом он перешагнул через меня, открыл дверь купе и с ворохом белья вышел в коридор. Через некоторое время я очухался.
Проводник собирал белье в другом купе. Он почувствовал, что я остановился в проходе, но даже не обернулся.
— Мне это важно знать, — тихо сказал я. — У меня отец умер в пятьдесят втором году в поезде Москва — Ленинград. И его тело выгрузили в Бологом.
Проводник продолжал свою работу, не обращая на меня никакого внимания. Потом с очередной порцией простынь, наволочек и полотенец прошагал мимо меня, как мимо пустоты.
Я двинулся к выходу, и уже на площадке вагона проводник окликнул меня.
— Эй ты, подожди…
Я повернул к нему свое помятое лицо. Он испытующе посмотрел мне в глаза и произнес:
— Только меня ты в это дело не путай.
Я согласно кивнул.
— Была у него одна особенность… У него от виска вниз шел такой рубец, шрам… синий… Как будто кусок кожи выдрали…
Тут память опять скакнула на год или два вперед.
В 1961 году я впервые поехал за рубеж, во Францию. Это называлось «специализированный туризм». В иностранной комиссии писательского союза сколотили группку из сочинителей. Мы сами, разумеется, оплачивали и проезд, и пребывание. Но программа поездки предполагала не только знакомство с музеями, достопримечательностями и, само собой, магазинами, но и общение с французскими коллегами. Наша группа (в отличие от делегаций, которые ездят за государственный счет) состояла из двух литературных мастодонтов, трех прозаиков военного поколения и меня, молодой поросли и надежды советской литературы. Встречи с французскими писателями оставили унизительное впечатление. Наши заграничные собратья отнюдь не были высокомерными, наоборот, — люди воспитанные, они держались любезно и даже приветливо. Но было ясно, что они не только не читали никого из нас, но и никогда не слышали наших фамилий. Не исключено, что в глубине души они считали кое-кого из нас, если не всех, агентами КГБ, посланными за рубеж под писательской крышей. Рассказывали, что драматург Н. Ф. Погодин, который был убежден в своей всемирной известности, после подобной поездки в Америку от огорчения и обиды умер.
Вернувшись из Франции, я неожиданно получил повестку: мне предлагалось явиться на 1-ю Мещанскую (она же проспект Мира), в городскую ГАИ в определенный день и час. У меня уже около года была машина, новенький «Москвич». Я судорожно стал рыться в памяти — что, где и когда я нарушил, но никаких автомобильных грехов за собой не нашел. Советский человек привык слушаться официальных бумажек, и я не составлял исключения. В положенное время я подрулил к месту и направился искать комнату, номер которой был обозначен в повестке. В унылом казенном помещении два гаишника играли в домино. Я предъявил им повестку, и они показали мне рукой на дверь в смежную комнату, куда мне следовало идти. Я зашел в такой же безликий кабинет, как и предыдущий. За столом сидел безликий человек в штатском. Он встал из-за стола, протянул мне руку и неразборчиво произнес свою фамилию. Мы сели, и мой собеседник сразу же открыл карты. Оказывается, я не нарушил никаких автомобильных правил, а сам он вовсе не инспектор ГАИ, а работник органов. Он показал мне издали какое-то удостоверение, которое должно было убедить меня в том, что он говорит правду. Но этого он мог и не делать. Я как-то сразу поверил, что он действительно оттуда. Этот серый человек для начала отпустил несколько комплиментов по поводу моего дарования, сказал, что не сомневается в моем патриотизме, что он надеется на мое согласие помогать их организации… Застигнутый врасплох, не ожидавший ничего подобного, я промычал в ответ нечто невразумительное, что при желании можно было трактовать и как согласие, и как отказ. Дальше начался конкретный разговор. Он расспрашивал меня о поездке во Францию. Его интересовало все. Не отлучался ли кто из писателей? Может, кто-то не ночевал в отеле? Кто с кем встречался? Не вел ли себя кто-то из группы странно? Может, у кого-то было много валюты… Я не понимал, под кого он рыл, что именно хотел выудить из меня, но твердо знал — надо быть осторожным. Я обо всех своих попутчиках говорил в превосходной степени, рассказывал о патриотизме каждого члена нашей группы, хвалил талант и классовое чутье. Я видел, что каждая моя последующая фраза огорчает кагэбэшника. Я ускользал, как угорь. Вот уж к чему у меня никогда не было никакой склонности, так это к доносительству. Бесплодно промучившись со мной более часа, он сказал: