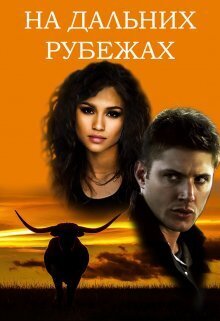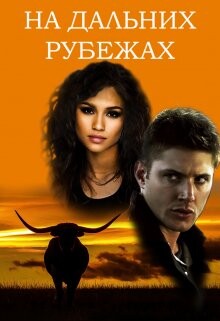шелк и масла, а также популярные у многих чаи и маринады. Если же не автоматизировать хозяйство и пользоваться дешевым человеческим трудом, то выходило еще выгоднее, ведь на еду людям шел все тот же лотос от корней и до плодов, да еще мусорная рыба, населявшая пруды. Это фруктово-овощные фермы на центральных планетах могли себе позволить роботов-сборщиков, которые каждый плод просканируют и оценят по всем параметрам, а стоило чуть отдалиться и заняться производством более специфичной продукции, как ситуация менялась.
Хозяин лотосовой плантации, впрочем, не жаловался. Там, где смог, он механизировал процесс, но это касалось только заготовки пищевой продукции. Лотосовый шелк, некогда всего лишь известный в узких кругах локальный раритет, а ныне — ткань популярная из-за своих свойств и экологичности, сохранял свою высокую стоимость именно из-за ручного труда, по-прежнему необходимого для его производства. Мастеров, обученных вытягивать нить из стеблей, интуитивно чувствовавших, какое натяжение для этого необходимо в каждую отдельно взятую секунду, заменить техникой было пока невозможно, да и не нужно. И тем более никакая техника не могла заменить человека при создании изысканных уникальных росписей на шелке. Настоящих ценителей было не обмануть сгенерированной картинкой, им требовалось нечто большее, — то, что может в свое произведение вложить только настоящий мастер.
Учитывая все это, было удивительно найти одну из мастериц, знавшую все тонкости извлечения нитей и создания прекрасных изделий, уходивших за сотни кредов, не в производственном цеху, а среди полевых работников. Закатав штанины как можно выше и периодически отмахиваясь от самых назойливых комаров, она ловко подсекала стебли маленьким ножиком и увязывала их в охапки. Как и многие подневольные жители плантации она начинала с такой работы еще будучи подростком и, вернувшись к привычному труду, делала дело с отточенностью и четкостью машины.
Ей едва ли было сорок лет, но годы не были к ней милостивы. Тяжелая работа и тяготы рабской жизни наложили свой отпечаток на ее некогда красивое и свежее лицо. Кожа огрубела от ветра и солнца, глубокие тени залегли под глазами, на висках и у рта. Основная часть морщин раскинула сети на лбу, чиркнув еще и меж бровей, красноречиво говоря, что смеяться и искренне улыбаться женщине доводилось не слишком часто.
Стоило женщине сделать паузу и снять шляпу, чтобы убрать выбившиеся из-под нее прядки, как стало заметно и то, что волосы ее, некогда струившиеся медово-русым потоком, превратились в сухую выгоревшую паклю, густо посеребренную сединой. От резкого окрика надсмотрщика она не вздрогнула, но к работе вернулась.
Работа — вот все, что у нее оставалось в этой жизни. Когда-то дела обстояли совсем иначе. Она жила в господском доме почти полноправной хозяйкой, была любима и обласкана. У нее было все, о чем женщина в ее положении могла только мечтать. Даже когда все рухнуло, у нее оставался ее сын — ее отрада, ее счастье. Того, что отец сможет продать своего ребенка, она не ожидала. Ведь даже если ее саму вышвырнули, когда появилась законная супруга, это не означало, что привязанность к их общему ребенку тоже иссякла! Не должно было означать!
Тогда она еще была глупа и наивна, думала, что знает сердце хозяина, что оно вообще у него есть. Сына у нее отняли и продали. В солдаты. Мать долго ждала хоть каких-то вестей, засыпая с мыслью о своем единственном ребенке, живя с молитвой о нем. Волевым усилием давила она в себе тревогу, сомнения и страхи. На этом титаническом усилии держался ее мир, точнее, то последнее, что от него еще оставалось. Стоило дать слабину, и все окончательно рухнуло бы. А потом настал тот самый странный день.
В разгар работы из носа женщины вдруг жирным потоком хлынула кровь, едва не запятнав бесценное полотно. Это было странным, потому что ничем подобным крепкая рабыня никогда не страдала. Но кровь не могли остановить весь остаток дня. При этом встревоженную женщину не оставляло чувство, что где-то произошло нечто страшное и непоправимое. Что и где, она не знала, поэтому держала свои мысли в тайне. Однако после того дня из жизни будто бы ушли последние краски, а внутри поселилась странная мутная пустота.
Но главное, произошло самое страшное — она перестала ждать сына. Она думала о нем каждый день, от этих мыслей на глаза наворачивались слезы. Но она больше не ждала. Это казалось ей самой кощунством, предательством, но едва теплившийся огонек, горевший в ее сердце ради сына, погас, и задувшая его пустота заполнилась могильным холодом. Ее невозможно было прогнать или заполнить. Она была бездонной и неоспоримой, и в ней бесславно тонули все жалкие попытки борьбы.
Теперь она осталась совсем одна. Хозяин, раньше бывший любимым мужчиной, превратился в кару за неведомые грехи, искаженной злой насмешкой над счастливым прошлым. Его присутствие в ее жизни отравляло все ее дни. Она ненавидела его визиты, ненавидела, что мысли о нем переплетаются с мыслями о сыне. Ненавидела себя за то, что не могла вычеркнуть из жизни все, что связано с тем, кто по сути был когда-то ее мужем.
И не было у нее ни подруг, ни хотя бы добрых соседей, с которыми можно было хотя бы немного посетовать на жизнь. Завой она хоть раз, как любая другая баба из поселка, покажи она хоть немного, как ее раздавила жизнь, может, и сжалился бы народ. Нет, сначала, конечно, обсудили бы все в деталях меж собой, посмаковали, потом попеняли бы гордячке, а там, глядишь, и сжалились бы, снизошли бы до сочувствия. Так ведь нет, держалась будто королева в изгнании, только раздражая всех своим нежеланием просить о помощи, обижая народ отказом от помощи, которой никто и не думал предлагать.
В поселке на нее смотрели с высокомерной насмешкой — думала, что взлетела, а падать-то больно! Ишь, возомнила себя барыней! Ненавидели и презирали, завидуя сами не понимая, чему, придумывая выгоду, которую она якобы получила, вознесясь по прихоти хозяина над всеми другими рабами плантации. А ведь она никогда в свои лучшие дни не зверствовала, не унижала других невольников. Наоборот, старалась облегчить их участь, смягчить сердце хозяина. Но кому это было важно? Первые месяцы после изгнания из дома были отравлены жгучей человеческой злобой. Со временем, однако, злорадство со стороны других рабов поугасло, но память о нем была жива. А надсмотрщики все еще ожидали какой-то заносчивости со