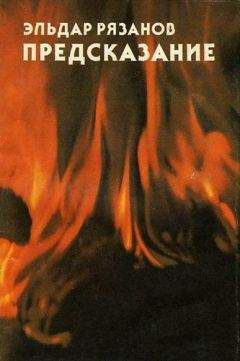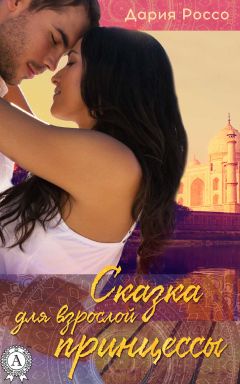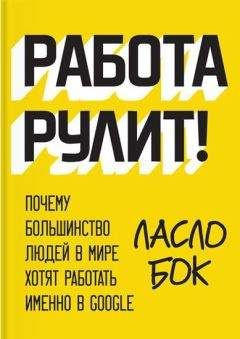Так рухнула моя гипотеза, подозрение, версия, называйте, как хотите. Тогда соседом отца по купе был другой человек с широким синим рубцом на щеке, а не врач, ученый, доктор наук, лауреат, почти академик. Но как найти ТОГО среди двухсот пятидесяти миллионов, признаюсь, не представлял. Да и, честно говоря, я не жил только этой проблемой. Это сейчас кажется, что я был поглощен исключительно розыском предполагаемого убийцы. Я ведь тогда и не был до конца уверен в том, что отца уничтожили. Колебался и туда, и сюда… Жизнь неслась… Я много работал… Почти по каждой моей повести, практически по каждому рассказу снимался фильм или для кино, или для телевидения. Именно благодаря кинематографу я смог, поднатужившись, купить пришедшую в упадок дачу в писательском поселке у пришедшей в упадок вдовы классика социалистического реализма. Но поскольку речь идет о судьбе отца, перенесемся еще годика на два-три вперед. По моему рассказу «Уроки немецкого» на Валдае снимали фильм для телевидения. Режиссер пригласил меня на недельку посидеть на съемках, помочь найти стилистику картины, переписать заново одну из ключевых сцен, к которой у него были претензии. Я охотно согласился, тем более что актриса, которую выбрали на героиню, мне очень нравилась, и у меня мелькали по этому поводу весьма радужные мысли. Надо было ехать поездом до Бологого, а там меня встречал микроавтобус съемочной группы. Я много раз проезжал мимо этой станции во сне — поезда в Ленинград и обратно останавливались здесь около четырех утра. И лишь раз я приезжал сюда специально, за телом отца. Обычно в таких случаях мыкаются — надо раздобыть цинковый гроб, преодолеть немыслимые сложности с отправкой гроба, организовать оформление всяческих документов, но в тот раз меня поразила высокая организованность дела. Просто я тогда не подозревал, что конвейер транспортировки покойников был привычен и отлажен…
Я провел несколько дней на съемках, помог режиссеру. Жили мы в Доме колхозника в райцентре, где для меня, постановщика и исполнителей главных ролей организовали по отдельной комнате, естественно, без удобств. Кое-кто поселился в частных избах. Со жратвой тоже обстояло неважно, хотя администрация группы билась изо всех сил. После каждого обеда, напоминавшего войну и эвакуацию, режиссер говорил одну и ту же фразу:
— ОНИ утверждают, что бытие определяет сознание. Так вот, как ОНИ нас кормят, так мы им и снимаем…
Через несколько дней я, отправился восвояси. С актрисой ничего не вышло. Место, на которое я целил, было уже занято оператором фильма. Роман с оператором, впрочем, не мешал исполнительнице играть хорошо. А, может, наоборот, помогал. Ибо рассказ был написан именно о любви.
Меня снова привезли в Бологое. И я снова погрузился в воспоминания. Вдруг я подумал — в нашей бумажной стране, где документ важней человека, не может быть такого, чтобы не осталось какой-нибудь записи в каком-нибудь гроссбухе. Я решил дождаться утра, сдал билет и прокемарил в зале ожидания. Впервые я видел, как снуют поезда между Москвой и Ленинградом, не из окна вагона.
Утром я пошел к начальнику станции. Я поинтересовался, не ведут ли они ежедневный журнал, служебный дневник того, что происходит на станции. Оказалось — ведут, и дежурный, сменяясь, передает его следующему дежурному. Но события, происшедшие с пассажирами, — заболел, обворовали, отстал от поезда, потерял багаж, умер, если только не попал под поезд, — не заносятся. Надо идти в железнодорожную милицию или больницу. Милицейский капитан, когда я объяснил ему свою просьбу, отнесся ко мне, как водится, недоверчиво. Я показал ему членский билет Союза писателей, водительские права, паспорт, удостоверение, разрешающее мне входить на киностудию, и еще что-то. И только тогда, крайне неохотно, он допустил меня в чулан, где валялись старые амбарные книги, в которых записывались милицейские протоколы и прочие сведения. Для порядка он приставил ко мне милиционера. Предстояла еще та работка. От пыли, грязи и паутины я регулярно чихал. Я листал пожелтевшие, местами некогда подмокшие и кое-где обгрызенные крысами страницы. Передо мной предстал чудовищный парад русской безграмотности, такой, что порой невозможно было докопаться до смысла. Разумеется, амбарные фолианты не были разложены по годам, иногда трудно было различить дату. То, что я читал, оказалось, по сути, своеобразной фотографией, достоверной фиксацией последних лет сталинского режима. Это был слепок, сделанный с реальной жизни провинциальной железнодорожной станции тех лет. Редкий день проходил без происшествий.
Убийства, несчастные случаи, пьянки, поножовщина, изнасилования, драки, воровство, растраты, грабежи. Но я искал регистрацию смертей в поездах. Их тоже оказалось немало — выбросили на ходу из поезда, зарезали по пьянке, самоубийства. Но я искал другое. Мы сделали с моим охранником перерыв на обед, я покормил его и себя какой-то необъяснимой бурдой в пристанционной столовке. А потом мы снова вернулись в чулан. Я устал, но чувствовал себя как ищейка, когда след становится все более и более свежим. Наконец я наткнулся на запись, которую жаждал найти. Запись была от 13 февраля 1952 года. «Пасс-р ск. поезд № 2 Горюнов Вл. Ив., 1902 г. р. Смерть в поезде. Мед. закл.: инфаркт миакарды. 15 февр. труп отпр. Моск.». Ничего нового, кроме того, как пишется слово «миакарды», найти не удалось. Правда, за 52-й год я обнаружил еще 9 смертей с аналогичными записями, а за 51-й год — 19. Предположить, что все эти смерти оказались ненасильственными, было трудновато. На всякий случай я переписал все фамилии и имена-отчества погибших в записную книжку. Кто-то из родных настаивал тогда на проведении вскрытия, но мать категорически отказалась. Она, да и я, безоговорочно верили медицинской справке. Делать вскрытие казалось нам в те горькие дни бессмысленным издевательством над близким человеком…
В общем, я примирился с тем, что так и не узнаю тайны. Прошло еще много лет, наверное, около двадцати, пока я снова не проявил детективного интереса к этой загадочной истории. Недавно, уже в горбачевское время, в газете «Московские новости» появился материал — документы из следственного дела Берии. Вот несколько цитат:
«Лист 69»
«…Изыскивая способы применения различных ядов для совершения тайных убийств, Берия издал распоряжение об организации совершенно секретной лаборатории, в которой действия ядов изучались на осужденных к высшей мере уголовного наказания…»
«…Майрановский вместе с работавшими у него врачами и лаборантами производили умерщвления арестованных путем введения в организм различных ядов… через пищу, путем укола тростью или шприцем…»