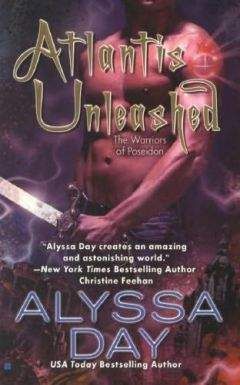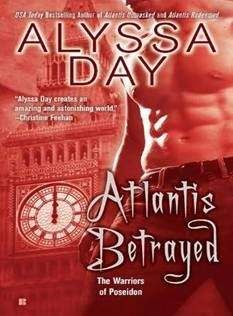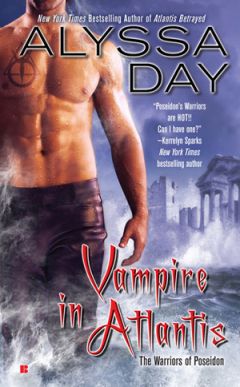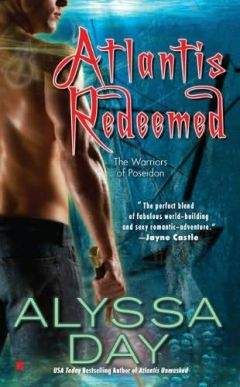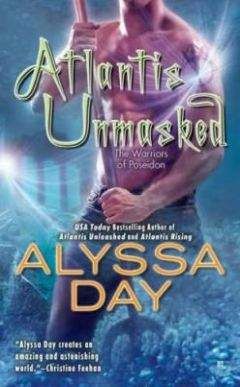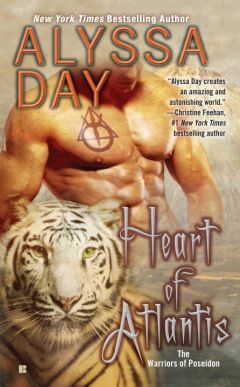Прежде чем Джастис успел среагировать, Конлан поднес к своему горлу кинжал и вдавил лезвие в свою плоть. Реакция Вэна, однако, была намного быстрее, поскольку он предупреждающе зарычал и ударом оттолкнул руку Конлана.
— Ты этого не сделаешь, проклятый идиот! Я же говорил тебе, если кто-то и принесет себя в жертву за нашего брата, то это буду я.
На этом Вэн извернулся, так что оказался под рукой Конлана и поднял его руку, пока кинжал, все еще сжатый в кулаке Конлана, не порезал горло Вэна. Полоска яркой алой крови потекла из-под лезвия, гипнотизируя Джастиса своим ярким цветом.
Отклик. Жизнь. Жизни обоих его братьев, которыми они хотели пожертвовать ради него. Осознание этого вывело его из странного транса, вызванного видом капающей крови.
— Нет. Нет! Вы не можете. Я не приму ее. Я не возьму ответственность за ваши жизни на свою совесть. Я не достоин и никогда не был достоин Вашей жертвы.
Но то ли они не слышали его, то ли игнорировали его, потому что они боролись за кинжал. Сражаясь друг с другом за то, кто умрет, чтобы он мог вернуться домой.
Агония как холодная сталь пронзила его грудь при мысли о том, что они оба умрут во имя его спасения.
— Нет, — закричал он снова. — Я ее не приму. Я возвращаюсь в Пустоту, так что любые ваши жертвы будут принесены напрасно. Опустите кинжал и прекратите эту глупость.
Он выражал фальшивый сарказм, которого не чувствовал в своем голосе.
— Вы такие дураки, оба. Немедленно прекратите это безумие. Я с радостью возвращаюсь в Пустоту, чтобы избежать ваших плаксивых жертвенных порывов.
И затем, с храбростью, которой он не знал никогда за все свои века, он поднял голову, чтобы в последний раз взглянуть на Кили. Он упивался ее видом — великолепные рыжие волосы, к которым он никогда не прикоснется, пышное тело, которое он никогда не почувствует рядом.
— Помни обо мне, моя леди. Это единственное, что я у вас прошу в этой или другой жизни. Помни меня, хоть ты никогда меня не знала, потому что я чувствую так, будто знал тебя целую вечность и желал тебя еще дольше.
На этом он повернулся, чтобы уйти, борясь со всеми имеющимися у него инстинктами. Его ум, и сердце, и душа кричали ему, что он не может покинуть ее. И все же его честь знала, что он не может позволить своим братьям принести окончательную жертву за него.
Когда он повернулся, забыв, что все еще держит в руке свой меч, путь ему преградил Фарнатий.
— Никакой «отверженный бастард» не выказал бы такую преданность своим братьям, — сказал он, в его искореженных чертах сияло простое достоинство. — Вы посланник богов, хоть Вы и не знаете правду о себе. Вы эмиссар моего избавления от тьмы, от Анубизы и от бессмысленной смерти.
В этот миг Фарнатий задохнулся и поднял голову, чтобы с ужасом в широко раскрытых глазах посмотреть на что-то поверх плеча Джастиса. Джастис развернулся на месте, чтобы посмотреть, какая возникла новая опасность, но даже раньше, прежде чем он начал поворачиваться к проклятому порталу Анубизы, внезапный и зловещий вес упал на него.
Он рефлекторно присел, чтобы поймать Фарнатия, когда человек упал ему на руки. Но, посмотрев вниз, Джастис понял, что его меч вонзился в живот Фарнатуса по самую рукоятку, он откинул назад голову и с воем послал свое отчаянье пульсирующему красному небу.
— Любые боги, которые слышат меня, знайте об этом, — сказал грек, напрягаясь, чтобы выговорить каждое слово, его лицо исказилось в яркой комбинации мучения и ликования. — Я делаю это по своей собственной воле, и моя жертва должна освободить лорда Джастиса из его заключения.
Джастис закричал и извлек меч из Фарнатия, поскольку человек потерял сознание.
— Нет! Не для меня! Я не заслуживаю твоей жертвы, — кричал он, слезы бежали по его лицу. — Ты не можешь этого сделать.
— Я это сделал, — сказал Фарнатий, его голос стал тише. — И теперь Вы должны жить, зная об этом. Зная, что Вы достойны, и боги специально выбрали вас.
На этом лицо грека затопила радость, и он протянул руки, как будто увидел невидимого вестника.
— Александр, мой господин, Вы пришли за мной, — прокричал он.
С последним дрожащим вздохом, Фарнатий закрыл глаза и умер.
Громкий быстро усиливающийся шум ворвался в Пустоту как ударная волна, и Джастис увидел, что искаженная поверхность на лестничной площадке стала прозрачной.
Первосвященник Аларик протиснулся в проем и протянул руку.
— Его жертва открыла вход, но пройти может только одно живое существо. Я не могу спуститься к тебе, Джастис. Ты должен сам прийти к нам.
— Я не брошу его, — проскрежетал Джастис. — Я не заслужил его жертву и не брошу его.
— Ты можешь принести его тело, — сказал Аларик. — Он теперь уже не живой и поэтому не подвергается ограничению Пустоты. Но ты должен пройти сейчас, пока ворота не закрылись.
Джастис посмотрел на свой меч и уголком сознания заметил, что он больше не сиял. Фактически, лезвие стало черным.
— Черное под стать моей душе, которая была недостойна его жертвы, — горько сказал он. Но по привычке, пронесенной через века, он, тем не менее, вытер лезвие о свой рукав и вложил в ножны за спиной, вместо того, чтобы выбросить его на бесплодной земле Пустоты.
— Теперь ты должен поторопиться, — убеждал Аларик. — Мы не знаем, как долго ворота будут оставаться открытыми.
Больше ничего не осталось. Если он останется в Пустоте, то жертва Фарнатия окажется бессмысленной. Он не мог — не сможет — это сделать. Он взял мертвого на руки и встал. Потом, одним прыжком, он прошел сквозь врата Пустоты и вошел в Атлантиду.
Когда он пересек воздух своей родины, хрупкий мир между двумя его натурами разбился. Нереидская часть его души выкрикивала вызов, а его Атлантийская часть позорно склонила голову, потому что мертвый человек принес себя в жертву такому недостойному существу, как он. Его голова пульсировала от неистовой яростной битвы между двумя разделенными половинками его души.
Но какое значение имела боль после долгого времени боли и ничего другого?
Он взвалил свое жалкое бремя на руки Аларика.
— Я бы попросил тебя почтить этого человека древними похоронными ритуалами. Он был греческим пехотинцем в армии Александра и пережил две тысячи лет в Пустоте.
Аларик склонил голову.
— Так и будет сделано, как честь и свидетельство его выживания и его жертвы.
Джастис откинул голову назад и резко рассмеялся, в его смехе не было юмора.
— Не было нужды в его ошибочном поступке, хотя самоотверженность сама по себе достойна почета. Но ему не следовало делать это ради меня. Никогда ради меня.