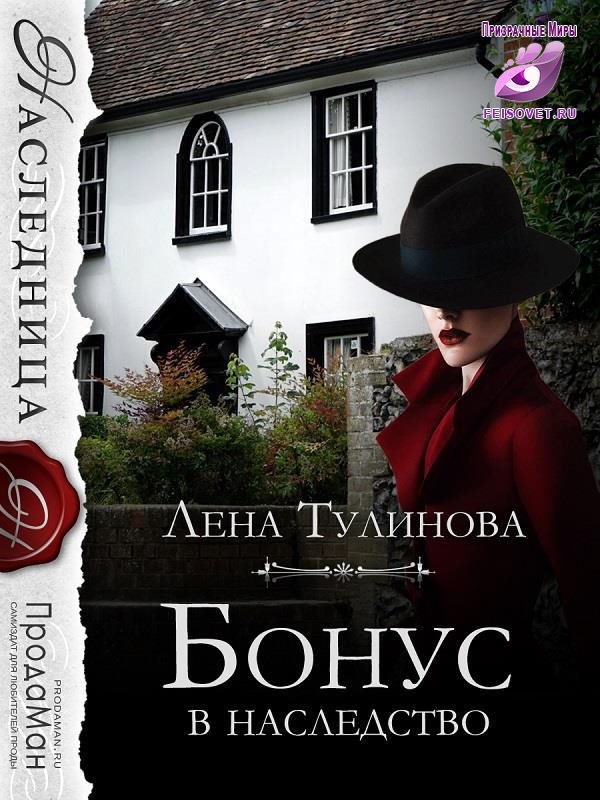– красивыми, юными. У них были худые, гибкие и сильные тела. С другими не выжить в трущобах. Уличная пыль, босяки всегда поражали нездешней красотой. Всё оттого, что лица их стали смуглы от солнца, а щёки румяны то от жары, то от холода. И глаза их наполнены жизнью, а не жаждой денег.
– Одни отказываются от всего, чтобы быть ближе к своим истокам, а другие – для того, чтобы отдалиться от них как можно сильнее, – сказал Микки. – Ты счастлив после всего? Твоя тётка счастлива? Гордится тем, что совершила?
Деми дёрнул плечом.
– Почём мне знать, счастлива ли Анаста? – спросил он. – Если я спросил, не являлась ли она сюда, это не значит, что я о ней беспокоюсь, но бабушка…
– Я не впустил бы к ней ни тебя, ни Анасту, – равнодушно ответил Микки. – И если появишься в следующий раз, то вспомни, что Андреа любит сладкое вино и мягкое мясо. Здесь таких не купишь, диа.
– Не зови меня так, - сказал Деми. – Я здесь вырос и имею право быть таким, как вы.
– Вы с Анастой продали свое право за маленькую малость, – Микки снова показал ноготь мизинца и для убедительности щёлкнул им о ноготь большого пальца. - Сказать, за какую? И теперь ты диа, чужак.
Для убедительности Микки снова прибег к жестам. Правая рука кулаком в грудь – что означало горячую убеждённость в своей правоте. И потом ладонью от шеи до пупка и обеими руками у горла – галстук и одновременно петля висельника. О да, тут презирали средний класс, презирали и высший. Последний жест Микки подчеркнул презрение: два оттопыренных безымянных пальца, самых слабых среди остальных.
Ответить на подобный жест можно было молчанием или дракой. Но глупо драться с последним человеком, кто еще хоть как-то связывал сан Котта с уличной пылью и к тому же ухаживал за старой женщиной, давно лишившейся зрения, слуха и нескольких частиц своей крылатой души. А ведь известно, что, теряя перья, душа теряет и возможность подняться так высоко, чтобы достичь небес. Стало быть, оставалось лишь молчание.
Молча Деми пробрался сквозь кучку танцующих, и в конце улицы обернулся. Отсюда был виден лишь тёмный силуэт в свете фонаря на балконе.
Идти через рабочие кварталы к центру не так уж долго, если напрямую. Другое дело, что это небезопасно: здесь чужаков любят еще меньше, чем среди босяков. Тут надо идти, огибая дешёвые пабы, стараясь попадать в свет фонарей, прислушиваясь к шагам, особенно за спиной.
Но ему повезло сегодня. Наверно, не зря он вспомнил про арана Моосса и поговорил с ним: парень с портрета по-прежнему хранил его. На границе хорошего квартала и плохого полицейский спросил у Деми документы и долго разглядывал Ренину записку.
– Деми сан Котт, – протянул он, растягивая гласные. – Ишь ты. Почему без ошейника?
– Я не такой раб, – оскорбился Деми. – Я…
Полицейский противно заржал. Котт выхватил у него бумагу из руки и быстро пошёл, почти побежал прочь. По счастью, у патрульного было хорошее настроение, и вдогонку он послал только крепкое словцо.
У самого же Деми настроение отчаянно испортилось. Надо ведь будет еще что-то соврать Рене – где он был, куда дел деньги. Ну да ладно, зато Рена есть. Его маленькое утешение в этой большой вонючей луже жизни.
***
Он щёлкнул замком, вошёл и повёл ноздрями, словно настороженный пёс. Пахло чужим человеком. Так благоухают приличные барышни, которые носят красивые платья и дорогое бельё, а у Рены нет ни красивых платьев, ни даже приличного белья – то, что она потихонечку сушила на трубе парового отопления за кроватью, и бельём-то называть было стыдно. Про духи и говорить нечего: от Рены обычно пахло только мылом и зубным порошком. Ну да ничего, они наработают небольшой капитал и смогут провернуть вполне законное дельце, в результате которого Рена выйдет замуж и станет араной – он всё продумал. Будут у неё ещё и духи целыми вёдрами, и всё остальное.
Вот только чем же это пахнет?
Рену Деми нашёл в кабинете, она спала сидя на стуле и положив голову сложенные на столе руки. Настольная лампа тускло освещала её макушку. Деми увидел несколько исписанных листов бумаги, заменявших Рене подушку.
– Рен, – парень осторожно дотронулся до плеча девушки.
Та встрепенулась и распахнула глаза – сонные, влажные, тёмно-карие. Тревожные.
– Ты так долго! – сказала она. – Я волновалась!
– Вижу я, как ты волновалась, – сказал Деми с улыбкой. – Давай-ка быстренько переодевайся и иди в кровать.
– Сегодня твоя очередь, - возразила Рена. – И я хотела тебя дождаться, чтобы рассказать…
– Расскажешь завтра. Быстренько, быстренько в кровать. Или тебя на ручках отнести?
Рена вскочила, чуть не уронив стул, и заторопилась в спальню. Но у дверей обернулась и спросила:
– Ты ведь был у женщины?
Деми помедлил с ответом. Он понимал, почему её это волнует: глупышка думала, что своим танцем он пытался её соблазнить и считала, что отказала ему.
Святая простота! Если б Деми действительно хотел соблазнить…
Но нет, она не для него. Пусть лучше найдёт своё счастье где-то ещё, не в убогом офисе… и не с ним.
«Ты счастлив?» – спросил у него Микки сегодня.
И Деми не смог ответить – но, кажется, ответ не был бы положительным.
Как может быть счастлив раб? Особенно рядом с женщиной, которую не может сделать счастливой.
– Я был у женщины, – сказал он, подумав, что не так уж и соврал – старая Андреа ведь была женщиной.
Рена прерывисто вздохнула и сказала тоном обиженной маленькой девочки:
– Ну, тогда тебе и правда кровать не нужна. Уже навалялся.
И ушла в спальню. Деми сказал арану Мооссу:
– Знаешь, ты уж не подведи, ваше аранство. Видишь, какая она? Пусть уж у неё всё будет, а я как-нибудь перебьюсь.
И погасил лампу.
Ночной дом, где уже погашен свет, крепко отличается от дневного дома. Кажется, что с улицы кто-то заглядывает, чудится, что тени сгущаются не от вешалки или стула – от незваного гостя. Только узкая полоска света