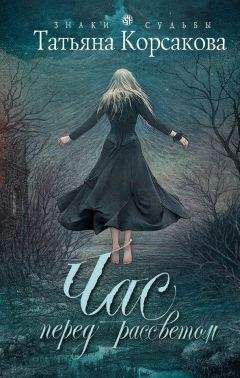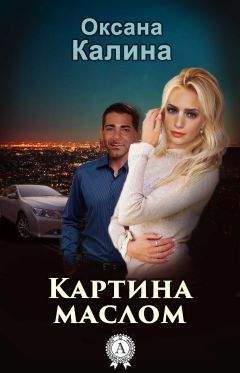— Нет, Санька, — дед покачал головой, — у этого человека нет ни чести, ни совести, ни жалости. Доверять ему нельзя, и надеяться на его снисхождение тоже нельзя. Не думал я, что он вернется.
— Дед, а ты знаешь его?
— Знал когда-то. А тебе знать этого зверя незачем. Я с ним сам разберусь, только на ноги встану. Подай-ка мне еще отвара…
Слова деда не давали Сане покоя. Думать он мог лишь о том, что отец с мамой в плену у этого страшного человека. А дед поправлялся очень медленно, только на третий день начал ходить по хате, а на четвертый выходить на двор. На пятый день Саня решился, дождался, когда дед заснет, сунул за пояс нож с вепрем, дедов подарок, бесшумно выскользнул за дверь.
Дорогу к дому он мог бы найти с закрытыми глазами, даже несмотря на то, что не было в лесу никакой специальной тропки. Дед, да и он сам, всегда ходили разными путями, не оставляя за собой следов. Для чего это нужно, Саня не знал, но привычно следовал раз и навсегда заведенному порядку.
Макеевка осталась в стороне, но ветер доносил до него едва уловимый запах пожарища. Через дыру в заборе, замаскированную зарослями лопуха, Саня пробрался в парк. В парке было тихо, почти так же тихо, как и в лесу, но откуда-то со стороны заднего двора доносился гул голосов.
Сане удалось подобраться очень близко, спрятаться за пустыми бочками рядом с погребом. Из своего укрытия он видел все как на ладони, видел и слышал.
Задний двор перегородили телегами, превратив в подобие арены. Испуганные дворовые, бабы и ребятишки столпились на границе арены. Особняком, в любимом отцовском кресле, окруженный своей верной сворой, сидел Чудо. На коленях у него ерзала и вертела по сторонам головой Аленка, мамина горничная. Платье на ней было тоже мамино, красивое, расшитое жемчугом. Аленка то и дело поглаживала жемчужные бусинки, мечтательно улыбалась. Чудо обнимал ее за талию, что-то нашептывал в пунцовое ушко.
Отца Саня признал не сразу. Да и можно ли было признать в этом измученном, избитом до полусмерти, привязанном к колесу телеги человеке его отца?!
Звери! Ироды!
Кровь прилила к лицу, громко застучала в висках.
— Ну, так где твой щенок прячется? — Чудо спихнул с коленей Аленку, подошел к отцу. — Думаешь, не найду?
Отец не ответил, лишь устало прикрыл глаза.
— Про семейные деньги уже не спрашиваю. — Чудо говорил так тихо, что Саня скорее догадывался, чем слышал. — То, что мне причитается, я и сам возьму, дорогой братец. И знаешь, кто мне в этом поможет?
— Зою не трогай! Заклинаю! — Голос отца был слабый, как у старика.
— Не трону. Будет жить твоя Зоя. Только вот обещать, что жизнь эта будет лучше смерти, не могу. — Чудо достал из-за голенища волчий нож, повертел в руках. — Помнишь, брат, наш давний разговор? Помнишь, как я давал тебе шанс? Зря ты тогда отказался, нынче я совсем другой человек, сантименты мне чужды.
— Ты не человек, Игнат. — Отец открыл глаза, во взгляде его была жалость. — Ты чудовище.
— А пускай и так! — Чудо усмехнулся. — Тебе об этом уже тревожиться не нужно. Пришло мое время! Таким, как я, сейчас раздолье! А об фамильных ценностях можешь не волноваться, Зоя мне все рассказала, чтобы тебя больше не мучил. Глупые вы людишки, смешные! Вами так легко управлять. Ради несуществующей любви готовы собой жертвовать.
— Отпусти Зою, тебе же только золото нужно. — Отец подался вперед, окровавленные веревки впились в истерзанную плоть.
— Не только. Ошибаешься, брат. — Чудо покачал головой. — А Зою я отпущу, вот только захочет ли она от меня уходить. Подарок мой, смотрю, так и не сняла.
— Какая же ты сволочь, Игнат. — Отец пытался встать с колен, но веревки не позволяли.
— И мальчонку вашего я найду. Найду, но убивать не стану, воспитаю, как родного. Будет он таким, как я, про вас, родных родителей, даже и не вспомнит. И до Лешака доберусь. Что, думаешь, я не знаю про твоего лесного дружка? Найду, дай только срок. Шкуру с живого сдеру на глазах у твоего щенка. Пусть учится.
— Не смей! — Слабый голос отца потонул в хохоте Чудо.
— Эй, народ! — Он обвел дворовых тяжелым взглядом, от которого бабы и мужики испуганно втянули головы в плечи, а малыши заревели в голос. — Нет больше барского ига, а есть власть рабочих и крестьян! И тот, кто все эти годы проливал пролетарскую кровь, сегодня прольет свою!
Волчий нож блеснул на солнце, а в следующее мгновение из разрезанного горла отца хлынула алая кровь.
— Папка! — Саня вмиг забыл об осторожности, почти оглохнув от обрушившегося на него безумия, с ножом бросился на Чудо.
И успел, и добежал, увернувшись от кинувшегося на перехват Ефимки, и даже полоснул ножом человека, который и не человек вовсе. Да только вот не убил…
— А вот и щенок! — Нож упал на пыльную землю, а в вывернутой руке молнией вспыхнула боль. — Сам пришел. — Чудо разглядывал его почти с доброжелательным интересом, на сочащуюся кровью щеку не обращал внимания.
Подоспевший Ефимка сбил Саню с ног, вцепился сзади в волосы с такой силой, что из глаз хлынули слезы.
— Вот оно, значит, как. — Рукоятью нагайки Чудо коснулся Саниного подбородка. — А ведь я должен был догадаться… Ефимка, пусти!
— Чудо, он же тебя убить хотел!
— Это? — Он коснулся порезанной щеки, поддел носком сапога Санин нож. — Меня таким не убьешь. Слышишь, щенок?!
Он говорил, а за его спиной захлебывался кровью Санин папа, и помочь ему Саня никак не мог. Близкая смерть уже набросила мутную кисею на голубые папины глаза. Саня заплакал… Ненавидел себя за слабость, но не мог остановиться.
— Что с ним делать? — Ефимка толкнул его в спину, швырнул на пропитанную отцовской кровью землю. — Может, тоже того?..
— В погреб! — велел Чудо. — И часового приставь. Да проследи, чтобы не напился часовой. За мальчишку отвечаете головой, он мне нужен живым.
— Зачем? Прирезать — и дело с концом. Я считаю… — Одноглазый Ефимка не договорил, рухнул на землю, сбитый невероятной силы ударом.
— Тебе незачем считать, — сказал Чудо ласково. — Тебе нужно делать, что велят…
Идея родилась внезапно, во время погрузки волка в багажник. Дэна как молнией ударило, смысл послания вдруг стал почти ясен. Кораблик на волнах… В окрестностях был только один кораблик. По крайней мере, тринадцать лет назад…