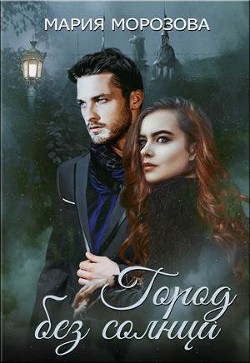Наконец, дорожка и знакомая калитка, что ведет в мой сад. Добралась. Задняя дверь громко хлопнула, отрезая меня от улицы, от удушливого тумана и от самого города. Я раньше этого не замечала, но именно сейчас ощутила особенно остро, что этот дом уже стал моим. Пропитался моим запахом, наполнился моим присутствием. И в нем разом стало легче дышать, легче видеть, легче чувствовать. Даже замерзшие пальцы стали быстро отогреваться.
Вытерла влажный лоб и бросилась по лестнице в спальню, где на тумбочке лежал телефон. Бесполезный, не видящий сеть, все так же показывающий дату четырнадцатое мая, сейчас он был единственным моим спасением. Но, как только я взяла его в руки, экран мигнул и резко погас.
— Нет, только не это, — воскликнула я, лихорадочно нажимая на кнопки.
Но это не помогло. Ничего не помогло. Телефон не работал.
От отчаяния я чуть не завыла. Что мне теперь делать? У меня не осталось даже фотографий.
Не осталось фотографий… Ну уж нет, я так просто не сдамся. Ведь у меня есть мои карандаши.
Я схватила альбом и любимый набор и села прямо на холодный пол. Но это меня сейчас не волновало. Я рисовала. Будто находясь в каком-то странном трансе, лихорадочно наносила цветные линии на бумагу. Где-то подробными рисунками, где-то — всего лишь набросками. Но отображала на ней свою память. Образы приходили в голову сами собой, и я торопилась закрепить их, ужасно страшась не успеть.
Вот мама и папа сидят в обнимку на диване в нашем доме. Вот Лиз гарцует на Лавре — своем любимом гнедом жеребце. Вот домик моей бабушки возле Истборна, где я часто проводила лето, и знаменитая меловая скала Бичи-Хед, выглядящая со стороны моря, как белоснежных айсберг, чудом заплывший в воды Ла-Манша. Эрик с теннисной ракеткой сражается на корте с Беном, тем самым лучшим другом, который сломал ему нос когда-то. Арчи — наш пес породы корги, весело носящийся по зеленой лужайке. Даже мой начальник мистер Митчелл, суровый и непоколебимый внешне, но удивительно добрый и отзывчивый мужчина — на бумаге нашлось место для всех. Моя жизнь, моя память, моя семья — никому не позволю отнять их у меня.
Карандаши крошились, бумага мялась и укоризненно шелестела, когда я небрежно отбрасывала очередной рисунок, чтобы схватить новый чистый лист и начать покрывать его резкими штрихами. Не отрывая взгляда от бумаги, не обращая внимания на голод и усталость, рисовала и рисовала, словно одержимая.
Когда наконец пришла в себя, за окном уже сгустилась чернильная ночная тьма, а вокруг неровным веером лежали десятки изрисованных листов. Я дышала так, будто пробежала не одну милю, а пальцы красовались сломанными ногтями и свежими мозолями чуть ли не до крови.
Попыталась подняться и, охнув, согнулась обратно, будто древняя старуха. Руки и ноги слушались так плохо, что едва смогла добраться до кровати. Все тело кололо мелкими иголочками от долгого сидения в неудобной позе. И когда я успела включить свет?
В затылке вдруг резко заломило, заболело, в глазах заплясали темные мушки, а из носа потекла кровь.
— Черт, — выругалась я и поплелась в ванную, стараясь не залить собственные рисунки.
Холодная вода помогла остановить кровотечение и успокоить лихорадочно горящие щеки. Но тупая боль, поселившаяся где-то внутри головы, не собиралась никуда уходить. Поэтому я не стала ничего убирать или пытаться привести в порядок. Сил только и хватило на то, чтобы доползти обратно до кровати и, даже не раздеваясь, укрыться одеялом и провалиться в глубокий сон без сновидений.
ГЛАВА 14
Утром я резко проснулась и подскочила, как ошпаренная. Все та же комната, все те же серые стены, только теперь возле кровати неровным веером лежали мои рисунки и рассыпанные карандаши. Закрыла глаза, пытаясь представить какую-нибудь сцену из далекого прошлого. И воспоминания послушно возникли в голове. Я сделала это.
Именно сейчас очень остро ощутила, что это гиблое место начало влиять на меня с самого первого дня. Глушило эмоции, отбирало по капле силы. Ведь за все это время я вспомнила о родных от силы несколько раз и даже не слишком активно возмущалась, что не получается связаться с ними. А стоило сразу насторожится. Но я все списала на депрессию. И только теперь поняла, как сильно это отличалось от меня настоящей.
От облегчения хотелось плакать и смеяться, хотелось прокричать об этом на весь город. Но нельзя. Пока эта маленькая победа будет только моей.
— Теперь никто не сможет меня заколдовать, — шептала я злорадно, приклеивая альбомные листы к стене над кроватью кусочками бумажного скотча. — Теперь это мой личный Форт-Нокс.
Рисунки будто были живыми. Яркие, выразительные, теплые, причем в самом прямом смысле этого слова. Казалось, еще чуть-чуть, и изображенные на них люди улыбнутся, задвигаются, послышится чужой смех и непринужденная болтовня. Что это такое? Моя собственная магия? Созданные мной самой якоря, способные удержать свет, удержать помять и личность? Не поэтому ли я чувствую себя сейчас удивительно бодрой и мыслю очень ясно? И не поэтому ли колокольчики в вазе никак не завянут? Это ведь не может быть просто совпадением. Именно рисунок букета помог справиться с тем жутким ночным нашествием. Но как именно? Потому что я вложила в него положительные эмоции? Или часть собственной памяти? Или дело в человеке, который подарил букет? Раньше я никогда не замечала ничего подобного за своими картинами.
Все это обдумывала, пока в старом чайнике на кухне закипала вода. Мерное бульканье помогло успокоится и собраться с мыслями. Допустим, здесь, в Гленмаре, я обрела какую-то странную силу. Допустим, откуда она взялась, мне не очень интересно. Но вот могу ли я использовать это, чтобы побороть чары мистера Морта? Может ли мое влияние распространяться на других людей? Да, собственные воспоминания намертво въелись в бумагу. А если нарисовать картину другому человеку? Попросить описать самое счастливое, самое запоминающееся событие, попытаться схватить его чувства и перенести на альбомный лист. Но кого бы использовать в качестве подопытного?
Портрет Аннабель Морт получился совершенно обычным. Оно и понятно, в процессе творчества я не хотела ничего такого. Хотя, если вспомнить эмоции, с которыми его рисовала, я не удивилась бы, если бы нарисованная копия Аннабель вылезла из рамы и пошла душить свой оригинал.
Эрик? Нет, слишком рано. Что-то подсказывало, я должна знать наверняка, что этот способ сработает, и рисовать, полностью уверенной в своих силах, без каких-либо колебаний.
А вот Барбара Брук… Может, удастся найти в ней хотя бы отголосок настоящего прошлого? Может, процесс еще не стал необратимым. Решено, буду рисовать именно ее.
Быстро позавтракав, собрала альбом, карандаши и вышла из дома. Хотела уже почти бегом бросится на площадь, пока Августа не выползла из своего жилища, но, спускаясь с крыльца, вдруг заметила какое-то непривычно цветное пятно в зарослях белых асфоделусов у дорожки.
А там вырос цветок, которого в Гленмаре я раньше нигде не замечала. Вызывающе-яркий, удивительно красочный, он казался кровавой вспышкой посреди призрачно-бледных красок асфоделусов. Крупные зеленые листья, сочные и плотные, и высокий крепкий стебель, увенчанный пушистой красно-пурпурной метелкой. И откуда он здесь взялся?
Я прикоснулась пальцами к бархатистому соцветию. Красивый. Надо будет его тоже нарисовать.
— Это амарант, — послышался тихий голос моей маленькой соседки.
— Правда? — улыбнулась я, подняв голову. — Спасибо. Буду знать.
— Это хорошо, что он здесь вырос, — вздохнула Эмили. — Белых цветов стало слишком много.
— Да, ярких красок тут точно не хватает, — не могла я не согласиться.
— А ты так и не прочитала книгу, — укоризненно сказала девочка.
— Книгу? Какую книгу? — растерялась я, но Эмили вместо ответа развернулась и быстро ускользнула к себе домой.
— Ну ладно, — пожала я плечами и направилась к калитке, но вдруг увидела, как ко мне спешит Августа.