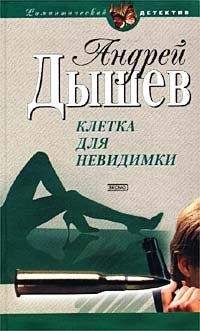У меня пропал дар речи, у Софьи — тоже. Козочка, а никто не пытался забрать отсюда сестру, внучку, дочь, ведь так?
— Вы подписывали какое-то обязательство, — постаралась не мямлить я, — кроме того, Анна учится за счет казны?..
— Все так, все так, — закивал Алмазов. — Но мне не нравится… Я хочу отправить ее к дяде в Робольск. Это бесконечно далеко отсюда, дорога будет долгой и непростой, но в Робольске хорошая женская гимназия. Пусть Анна окончит ее, а потом — кто знает, устроится туда же преподавать.
— А причина?
Глупый вопрос. Если бы кто-то из родственников девочек знал, что такое Академия благородных девиц — нет, если бы кто-то один прознал, завтра перед дверями кабинета Мориц стояла толпа разгневанных купцов-миллионщиков и князей, чья родословная длиннее, чем путь от Санкт-Петерштадта до Робольска. Каким бы ни было строгим воспитание в семье, академия допускала две серьезнейшие ошибки: девочки мерзли и плохо ели, и лишь абсолютный идиот даже в это время не знал, как подобное детство отразится на фертильности. Благородная девица может быть сколько угодно необразованной и дубинноголовой, но родить хотя бы двоих детей в браке она должна, иначе зачем это все вообще было.
— Я с самого начала был против, если вы помните, Софья Ильинична, — вздохнул Алмазов. — Слухи множатся, и я знаю, что вы стремитесь вернуть многое из того, что вводил, и успешно, инспектор Рауш, я искренне надеюсь, что вам это удастся — но и вы поймите, наш отец, священнослужитель, став епископом, отрекся от благ мирских, стало быть, и мы лишились того немногого, что у нас было, я простой учитель словесности, а Анна — неужели вы думаете, что у нее есть шансы устроиться при дворе или преподавать… после… — он перевел дух. — Я не хочу бросать ее на произвол судьбы, не дав ей возможности обеспечивать себя. Не хочу, чтобы у нее осталась единственная дорога — в монастырь.
— Ей нравится в храме, — возразила я, и Алмазов вздрогнул. Или мне показалось.
— Она привыкла, — как-то слишком поспешно заверил меня он. — Я не прошу вас, я умоляю. Может, получится отказаться от обучения здесь, и я готов все как есть рассказать его императорскому величеству, пусть его гнев за неблагодарность падет на мою грешную голову.
Он говорил, а я не верила. Почему я? Что это — желание убрать из академии Анну или что-то еще, и если все-таки первое, то потому, что она делает что-то странное и запретное, или есть иная причина?
Мне стоило обсудить это с Ветлицким. Может быть, это и есть тот самый контакт с заговорщиками, который мы ждали?
У меня уже зуб на зуб не попадал, и, смято пообещав поговорить, я сбежала. И больше не менялось ничего. Ни погода, ни мои отношения с воспитанницами и коллегами, ни обстановка. Было спокойно, как на кладбище в пургу.
Я писала для Ветлицкого все, что замечала. Я не замечала ничего, но раз его так интересовало — мне не жалко, тем более за пятьдесят целковых. Яга, которая за мной следит, Окольная, читающая непотребства — «Поэму» я надежно спрятала между кроватью и стеной, Миловидова, прикладывающаяся к бутылке, классы, где можно без опаски хранить замороженное мясо, кухня, где на всех старшеклассниц выделяют одно крыло престарелой курицы — воруют. Вдруг причина всей суматохи — воровство? Просили информацию к размышлению, так ешьте, хоть лопните. Версий тьма — от воровства до длительного запоя.
А еще девочка, ваше сиятельство, которая рисует или стирает нарисованные кем-то странные знаки. Вот еще одна версия, и у меня отказывает фантазия, думайте сами.
Я отложила пять целковых на сласти, сидела у себя в комнате за столом и писала Ветлицкому. Меня взяла такая злость на него, что я уже вспоминала, кто из учителей посмотрел на кого косо, кто из классных дам разнес какие сплетни. Все это была местечковая чушь, бытие уставших людей, озверевших от безысходности, и я с одной стороны ощущала себя глупо, с другой — да, козочка, хорошо, это будет повод и твоя отличная работа. Постой?..
Я уставилась на лист, недавно чистый. Сейчас на нем были выведены небрежным почерком строки: «Портниха м-ль Гастон, 750; лавка Распопова, 127; сапожник Хортце, 86; купец Горшечников, 963…» Софья засмущалась, вероятно, она писала это автоматически, сообразив, что я временно упустила контроль, я же, пробежав взглядом внушительный список, остановилась на цифре под чертой.
— Двенадцать тысяч целковых?.. — прохрипела я. — Козочка. Как так?
Это огромная сумма. Просто неподъемная, пожалуй, не только для Софьи, хотя кузина-купчиха могла бы ее покрыть не почесавшись.
— Теперь ты понимаешь, почему выгодное замужество? — со слезами на глазах молвила Софья. — У меня просто нет другого выхода.
Двенадцать тысяч целковых. Хлестаков, как я однажды посчитала от нечего делать, набрал у чиновников на привычные мне деньги миллион двести тысяч. Мелочь, особенно для взяточников. Раскольников убил старушку за четыреста тысяч. Настасья Филипповна сожгла — дура! — сто двадцать пять миллионов. Сто двадцать пять миллионов дай ей купец — тоже дурак. Книгу надо было назвать «Идиоты».
Софья Ильинична задолжала пятнадцать миллионов прекрасно знакомых мне рублей.
— Что ты считаешь? — вздрогнула не на шутку перепуганная огромными суммами Софья. — Какие миллионы? Какая Настасья Филипповна? Ты про Калинину?
— Не бери в голову и забудь. Так, козочка, теперь вспоминай: заговор. Давно пора было серьезно поговорить, — перебила я ее всхлипывания. — Лопухова, Бородина, кто-то еще? И не ври мне, да или нет?
Я говорила твердо и даже давила, уже зная, каков будет ответ. Если бы я захотела, нашла бы в памяти все, что так было важно Ветлицкому, не факт, что сказала бы ему, но — нашла.
— Нет. Нет, нет, — довольно равнодушно покачала головой Софья. — Я ничего не знаю. Для меня это было…
Да, я в курсе. Два жандарма, карета, застенки, палач и перепуганная насмерть девчонка, которая ничего не могла сказать в свою защиту. Мне нужно увидеть письмо, черт возьми, даже если придется — козочка, помолчи, я не говорю, что я сделаю это, но дам понять, что готова — проникнуть к Ветлицкому в спальню.
— Я боюсь, — прошептала Софья.
— Да ничего между нами не будет.
— Я боюсь всего остального. — Голос Софьи дрожал. — Что будет со мной, если ты вдруг исчезнешь? Я не смогу ничего без тебя, я не знаю… Не справлюсь, они сделают со мной все то, что обещал полковник. Казнь, ссылка. Я ни в чем, ни в чем не виновата. Ни в чем не замешана…
— Я знаю. Я обещаю, что я никуда не уйду.
Я приложила все силы, чтобы сказать это уверенно, но кто знает, удалось ли. Я не представляла, сколько времени останусь здесь, в теле Софьи, сколько мне срока отпущено, как это произошло и как задержать то, что задержать невозможно. Но если я отберу у Софьи надежду, мне конец. Нам обеим конец.
— Пойдем найдем Аскольда, — предложила я, — пусть купит сласти.
Страж врат академии мирно спал. Он уползал к себе, как только Мориц гасила свет в кабинете, а она сидела обычно до самой полуночи. Сейчас была половина двенадцатого, Мориц куковала наверху. Хотя Аскольда она не видела, неприятностей он не хотел, но и выносить постоянное бодрствование было выше его возможностей, поэтому он храпел, прислонившись к стене. Мне оставалось до него шагов двадцать, как он подскочил, но, оказалось, не из-за меня: кто-то скребся под дверью, и Аскольд, приоткрыв ее, получил от неизвестного гонца две бутылки, книжку, пакет сластей, вязанку баранок и небольшую бутылочку.
Дверь закрылась, и я подошла. Аскольд смотрел на меня, и руки у него были заняты — как же кстати.
— Вот, — я протянула ему купюру. — Купишь сласти, как и в прошлый раз.
— Сделаю, барышня-с, — промычал Аскольд. На купюру он смотрел так жадно, будто я ему ее дала просто так. Но — в руках чужие покупки, деньги недосягаемы.
— Давай-ка возьму, — сказала я и забрала у него баранки и одну бутылку. — Это я знаю кому, мадам Нюбурже и госпоже Миловидовой. Вторую бутылку тоже ей? — Я улыбнулась. — Книжку сам отдашь, а это? — я ткнула купюрой в бутылочку. — Госпоже Миловидовой? Я отнесу.