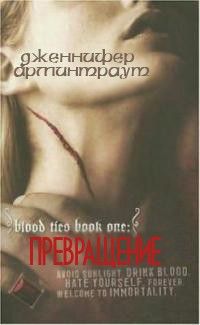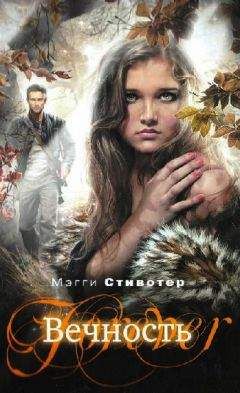Виктор ударил меня. Удар был довольно сильным, однако не в полную мощь. Во всяком случае, я удержался на ногах, хотя, пожалуй, губу он мне все-таки разбил. Лицо не утратило чувствительности, и я все еще помнил, о чем мы говорили. Я вскинул на него глаза.
За спиной у Виктора вырос Джереми; видимо, после оплеухи до него дошло, что это не одна из наших обычных перебранок.
— Не стой столбом! — заорал Виктор и врезал мне еще раз, прямо в челюсть. На этот раз я пошатнулся, но на ногах все-таки удержался. — Давай, ударь меня, слизняк. Ударь.
— Парни, — подал голос Джереми, но не сдвинулся с места.
Виктор с размаху саданул плечом мне в грудь, вложив в этот удар всю стовосьмидесятифунтовую тяжесть подавляемого гнева, и на этот раз я все-таки полетел наземь, проехавшись спиной по выломанному куску асфальта.
— Ты только зря небо коптишь. Ты эгоист и никто больше.
Он принялся пинать меня ногами. Джереми смотрел, сложив руки на груди.
— Хватит, — произнес он наконец.
— Я… хочу… стереть… эту… твою… улыбочку, — выдавил Виктор в промежутке между пинками.
Он выбился из дыхания и, в конце концов потеряв равновесие, мешком рухнул на землю рядом со мной.
Я смотрел на прямоугольник белесо-серого неба в вышине, обрамленный темными силуэтами зданий, и чувствовал, как из носа у меня ручейком течет кровь. Мне вспомнилась Энджи и какое лицо у нее было, когда она сказала, что обойдется без меня, и я пожалел, что она не видела, как Виктор мне врезал.
Джереми вытащил мобильник и заснял на камеру нас двоих, валяющихся на асфальте в каком-то городе, названия которого я даже не помнил.
Три недели спустя фотография, на которой я летел с лестницы, а Джереми с Виктором смотрели на меня, появилась на обложке того журнала. Мое лицо смотрело на меня с витрин всех газетных киосков. Забвение откладывалось на неопределенный срок. Я был повсюду.
Ближе к вечеру я лежал на полу в доме Бека, прислушиваясь к тому, как рвется наружу из меня волк, так яростно и настойчиво, что в сравнении с этим утренняя тошнота стала казаться цветочками. Я снова подошел к задней двери, открыл ее и встал на пороге, глядя на траву. На улице оказалось на удивление тепло; обложенное небо прояснилось, но порывы ледяного ветра напоминали о том, что на дворе все-таки март. На этот раз налетевший ветер проник прямо сквозь человеческую кожу к волку внутри. Меня пробила дрожь. Я вышел на бетонное крыльцо и заколебался; возможно, стоило пойти в сторожку и оставить одежду там, чтобы проще было потом ее забрать. Но следующий же порыв ветра заставил меня согнуться пополам от приступа неукротимой дрожи. Пожалуй, до сторожки я уже не дойду.
Желудок у меня скручивался в узел; я присел на корточки и стал ждать.
Однако превращение не спешило происходить. Практически весь день я пробыл человеком, мое тело успело освоиться в таком виде и, похоже, не собиралось с легкостью от него отступаться.
«Ну давай же, превращайся», — приказал я себе, когда новый порыв ветра вызвал у меня очередную волну содрогания.
Желудок подступил к горлу. Я твердил себе, что это всего лишь реакция на процесс превращения и она не обязательно должна закончиться рвотой. Если сопротивляться рвотным позывам, все будет хорошо.
Я сжал пальцы, заледеневшие от долгого соприкосновения с холодным бетоном, и мысленно представил, как ветер превращает меня в волка. В памяти вдруг ни с того ни с сего всплыли цифры телефона Энджи, и меня охватило иррациональное желание вернуться в дом и позвонить ей, просто услышать ее голос и повесить трубку. Интересно, что сейчас думает Виктор?
В груди разлилась тупая боль.
«Забери меня из этого тела. Не хочу быть Коулом», — подумал я.
Но и это тоже было мне неподвластно.
ГРЕЙСКазалось бы, в отсутствие Сэма в моей постели совершенно ничего не изменилось. Матрас оставался все той же формы. Простыни не стали больше. Без мерного звука его дыхания я не чувствовала себя менее сонной, а в темноте мне все равно было бы не различить очертаний его широких плеч. От подушки до сих пор исходил его запах, как будто он всего лишь поднялся взять книгу и забыл вернуться.
Однако же разница была колоссальная.
Живот заныл отголоском вчерашней боли, я уткнулась в подушку и попыталась заставить себя не вспоминать те ночи, когда я думала, что потеряла его навсегда. Представляя, как он там один в доме Бека, я перевернулась на бок и взяла мобильник. Однако звонить ему не стала, потому что вдруг вспомнила, как мы лежали с Сэмом рядышком в этой постели и его колотило, а потом он сказал: «Может, нам стоило бы пересмотреть наши привычки». Потом я вспомнила, как он сказал мне, чтобы я оставалась дома и не вздумала приезжать к нему.
Может, он рад был возможности побыть там в одиночестве, без меня. А может, и нет. Я не знаю. Мне было плохо, плохо, плохо, и это ощущение было совершенно новым и ужасным, настолько, что я даже не могла это описать. Хотелось плакать, и от этого я чувствовала себя глупой.
Я положила телефон обратно на тумбочку, улеглась на подушку и наконец уснула.
СЭМЯ весь был как открытая рана.
Не находя себе места, я бродил по комнатам; мне отчаянно хотелось позвонить ей еще раз, но я боялся навлечь на нее новые неприятности, боялся чего-то безымянного и огромного. Я ходил до тех пор, пока от усталости не начал валиться с ног, тогда я поднялся к себе на второй этаж. Не зажигая света, я подошел к кровати и лег, обняв холодный матрас; сердце у меня щемило, потому что под боком не было Грейс.
Мысли крутились в голове, хватая себя за хвост. Сон не шел. Сознание пыталось отрешиться от реальности, в которой была пустая постель; мысли сами собой начали складываться в стихи, а пальцы — нажимать на воображаемые лады, подбирая к ним мелодию.
Я — уравнение, которое решает она одна,
только иксы и игреки называются у нее по-другому.
Разделить нас было ужасной ошибкой моей,
и дни без нее лишь множат печаль мою.
Ночь тянулась невыносимо медленно, бесчисленные минуты накручивались одна на другую и никуда не текли, потом завыли волки, и голова у меня начала наливаться болью. Эти тупые ноющие боли оставил на память о себе менингит. Я лежал в пустом доме, слушал протяжный волчий вой и чувствовал, как в такт ему плещется в черепе боль.
Я поставил на карту все, что имел, и не получил ничего, кроме холодного матраса под рукой.
ГРЕЙС
— Пойду прогуляюсь, — сообщила я маме.