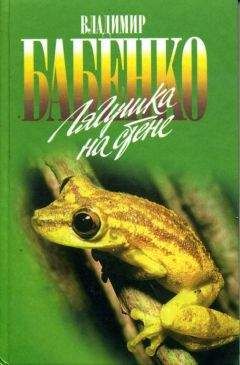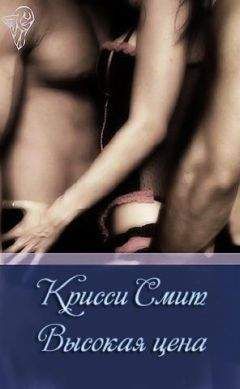– Открой, Нюточка, – по-мышиному поскреблась в дверь Вера Константиновна. – Как нехорошо получилось… Ах!
Анна не ответила. Она тут же забыла о матери, о ее приседающем голосе. Она увидела в темноте сияющую жирной белизной полную руку Нонки. Рука эта уверенно протянулась и начала неспешно, одну за другой расстегивать пуговицы на рубашке Андрея. Ну да, да… Ну и что? Все равно он ей не муж. Муж был Иван Степанович в костюме. С мужьями коньяки не распивают. Коньяк армянский… Часы на кухне из Хохломы, я таких не видела. А стрелки стоят. Ну да, стоят, как же. У нее там все тикает как надо. А мне говорит: не умеешь крутиться. Хочешь вдоль, хочешь поперек… Матрац стеганый, скрипит. Крутится она, как же. Это ей все мужья, мужья…
Расщепленный прямоугольник света, повторяя переплет окна, поплыл по стене. Свет на миг зацепился за настольную лампу на гнутой ножке. Лампа насморочным крючком повисла над кипой бумаг.
У них там коньяк, а у меня одни бумажки.
Но свет, соскучившись, померк.
– Магазин, – донесся голос матери. Ну, просто еле жива, умирает на ходу. – Ты, Саша, опоздаешь. Сходи уж, пожалуйста. И еще, не забудь молочное к вечеру, ну, ты знаешь, и… хлеб.
– Ладно, Вера Константиновна, куплю.
Анна без труда выключила эти голоса. Откуда у Нонки серый зуб? Гнилой, болит, наверное. Она розовая, большая. Рюши любит, оборки. Любовь у нее. Но вся уже рыхлая. А я, у меня… – Анна провела рукой по своим крепким напряженным бедрам. – Ну и что? Кому это нужно?»
– Я торт купил, уж какой не знаю, – сказал Сашка.
– Папочка, папочка, – укрощенный, тонкий голос Славки еще подсасывал воздух, позванивал слезами. Перешел на шепот: – А ты попроси у мамы фонарик.
– Нюточка, тебе чаю? Хочешь с медом? – боком всунулся просительный голос матери. – С чем тебе бутерброд, Нюточка?
– Ни с чем. Я спать хочу.
– У мамы фонарик. Да, бабуля?
– Тише, тише, это стеклышко, детка.
– Я тоже хочу стеклышко, я не разобью.
– Нюточка, уж ты… Только не нервничай. Дай…
– Господи! Да отстаньте вы! – вдруг сорвалась Анна и невольно удивилась, откуда такая враждебность и раздражение. – Раз в жизни и то нельзя. Голова болит. Уйдите вы от двери, Бога ради!
– Ты только дай кристалл и спи, – опять упрямый голос Сашки.
– Чаю с липовым цветом будешь? Очень хорошо. Мы с Лидией Ивановной собирали у ее племянника…
– Не трогайте ее, Вера Константиновна, пусть полежит. Аня, дай кристалл и спи.
– Не открою, сказала. Я уже легла.
– У Нюточки голова болит, – виновато зашелестела Вера Константиновна. – А я завтра пирог. С чем, с чем пирог? – И поскольку ей никто не ответил, продолжала, словно ей подсказали, только бы не повисла в воздухе ссора, размолвка, бродячий сквозняк. – С капустой, с капустой. Славик любит и Саша. Как раз есть, такой крепкий кочан. Как бабушка пекла.
Бабушка… Какие пироги? Что она кроме очередей на Бутырке видела? Деду передачи носила. И вечный шепот до самой смерти: «Могли бы уехать в глушь куда-нибудь. Переждать. Мог бы школьным учителем. Это я, я виновата, не уговорила, не уберегла». Так и умерла с этим шепотом. А куда бы они уехали? Дед так и сгинул…
Мать тоже все шепотом, шепотом. Сашку просто обожает, талант, видите ли. А я при нем и при Славке, шестерка. Мать все внушает: тебе хорошо, тебе очень хорошо.
А Сашка? Ему только его закорючки нужны. Рыцарь называется. Готов всех спасать. Особенно старушек на улице. А я? Да он меня в упор не видит. Так, иногда, по праздникам. А я молодая, – растравляла себя Анна, раскрывая какие-то незнакомые двери, и за каждой нехоженый путь. – Вот Нонка, она живет. Хочешь вдоль, хочешь поперек… И ребенок пристроен. У матери в Орше. От Орши такой путь. А он, Андрей, откуда? Положил мне в сумку кристалл потихоньку. Я даже не заметила. Кристалл. Ну и что? Да я, может, больше никогда и не увижу этого Андрея. И к Нонке больше никогда… Я о них и думать не хочу.
Но Нонкино большое голое тело бесстыдно растягивалось и сокращалось перед ней, вобрав в себя все световые пятна, блуждающие по комнате. Груди чуть отдают желтизной, и спелость такая, что от прикосновения остаются вмятины.
Даже привычно-родные голоса за дверью не могли прогнать этого наваждения.
– Бабуля, мне с розочкой.
– Ты, Саша, уже пришел или еще не ходил?
– Сегодня до девяти.
– Вот к чему это приводит. Опоздаешь ты, Саша, в магазин.
– Кашу не хочу! Мне с розочкой.
– Ты поспи, Нюточка.
Поспи. И так все проспала. Мать больше всех расстилается: талант, талант. За талант не платят. Полстраны уехало, а они все обещают. Жди, как же. Один Сашка еще сидит, считает. А мне что, всю жизнь на его спину молиться? Я молодая…
Круглая рука Нонки опять насмешливо засветилась, но какой-то синеватой, разбавленной белизной. И вдруг, прорвав целлофановую пленку, плеснула и растеклась белым по груди Андрея. Тут живое пятно света убежало на потолок, и ничего не стало.
Что мне мерещится? Просто Нонкин… нет, он ей не муж, нет, нет. Он положил мне кристалл в сумку.
А Сашка просто привык ко мне. Привык? Да он меня через раз замечает. Даже в ту ночь ничего не понимал. Потому только больно и стыдно. А мать все ходила по коридору. В мягких тапочках. Валерьянку пила на кухне. Флакон за ночь выпила, не меньше. Все воображала, вот он сейчас, сейчас, за этой дверью, ее девочку невинную трахает. Нет того, чтобы умотать куда-нибудь дня на три. Ведь у нее на каждой улице по две подружки. А тут нет, не хватило. А мой-то герой, талант. Что я, виновата, что у него первая? Не мог он с кем-нибудь до меня… попробовать… Сейчас по-другому, сейчас хорошо. Нет, это он считает, что хорошо. А я? Колено на стул поставит и чертит всю ночь. А я лежи, любуйся на его подошву…
Анна неожиданно всхлипнула. Что со мной? Подушка сырая, тяжелая, в комьях. Чем она набита? Тряпками мокрыми. А там, вовсю скрипит, ржет атласный матрац. Хочешь вдоль, хочешь поперек…
За дверью голоса, как яички в вате. Мать будто поет:
– С чем, с чем?.. Башмачок уронил. С капустой? Так и упасть недолго. Шейка бедра, как у Кати, бедняжки.
– Я подниму.
– Какой ты неосторожный! Чуть не разбил дедушкину чашку. Вот к чему это приводит.
– Я не буду кашу, там паук.
– Саша, он спит.
Домашним, чуть подкисшим теплом звучат слова. Открыть дверь и Сашку позвать. Славка спит в сахаре подушки. Лоб в душистой испарине. Тень от ресниц протекла. Там ее место. Там… Нет, нет… Все это ловушка, западня. Это они нарочно. Чтоб не догадалась, думать забыла. Им бы только вдолбить, что счастлива, а я…
В этой сумятице, в беспорядочном мелькании мыслей Анне вдруг открылось ясно и непреложно. Вот оно. Вот оно что. Главное… Они не видят: это все не то! Просто не то!