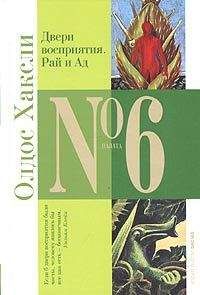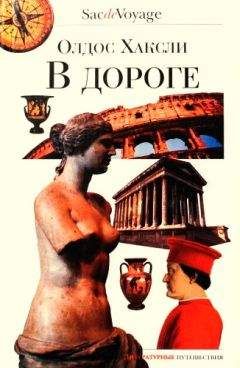все книжки из ее комнаты назад в библиотеку и торжественно поклялась больше не читать романов. Никакого Реверенуса. Только тома и брошюры по естественным и социальным наукам. Возможно, биографии, но без фанатизма. Все остальное Оливия презрительно окрестила «доморощенной философией». И если бы книги принадлежали ей, она бы несомненно устроила костер на участке перед домом и смотрела бы, как язычки пламени слизывают пустоту множества слов, обращая их в сизый пепел. Она так бы и сделала, если бы граф, трепетно собиравший редкие тома со всего мира, не пригрозил обратить ее в ледяную статую, если она сожжет хотя бы одну страничку. Оливия скорчила ему рожу, пока он не видел, и в отместку назвала библиофилом. Про себя. Она не забывала об осторожности.
— В этих текстах красота ушедших времен, красота идей и конструкций, красота созвучности, как в музыке, и образности, как в живописи, — нравоучительно вещал Колдблад.
— Я уже вам это говорила: красоту сильно переоценивают, — фыркала Оливия. — Да и не там вы ее ищете.
Она открыла для себя наслаждение чувственностью. И радовалась тысяче новых удовольствий, проскользнувших в ее жизнь. Разве удовольствие засыпать на чистых простынях, смаковать вино, подносить замерзшие ладони к камину сравнится с удовольствием жить лихорадочными образами, рождаемыми воображением? Самые простые вещи вроде холода и жажды становились ее новыми источниками наслаждений. Ей казалось, ее жизнь висит на волоске, поэтому каждый новых вдох она делала с жадностью, каждый новый рассвет встречала как последний. Кто бы мог подумать, что в простом существовании столько магии? Что «быть» — это не пассивный глагол, а активный. Она была, вот сейчас, именно в эту самую секунду. Кто знает, где она будет потом? Но сейчас она есть. Именно это важно. А уж почему и какой неведомый случай забросил ее в этот мир — вторично.
После их последнего разговора Колдблад разительно переменился. Он не напоминал о Себастьяне, давал время подумать, но Оливия всегда помнила, что ему нужно. И хотя граф отныне был любезен, временами нежен, улыбался и вел себя практически как образцовый супруг, хотя они теперь делили постель и много разговаривали о самых разных вещах, Оливия не позволяла сбить себя с толку. Ему нужно ее сердце, и только. Не она сама, а ее жизнь. Да, Оливия принимала беспечный вид и с удовольствием играла в семейную идиллию, но твердо стояла ногами на земле.
Ничего вы не получите, дорогой граф, посмеивалась она про себя, вам не заморочить мне голову. Свой грех я искуплю как-нибудь иначе, при жизни, искуплю его делами, поступками.
И якобы обдумывая предложение, она готовила план побега. Ей нельзя было возвращаться домой, но можно было поехать на юг, к морю и вечному солнцу. Там она окунется в жизнь и навеки забудет о холоде. И Оливия мечтательно улыбалась, потягивая горячий чай.
***В тот вечер Элинор была настолько хороша, что никто не заметил ее скверного расположения духа. Поклонники столпились рядом, угодливо улыбаясь, привлеченные теми же неотвратимыми силами, которые притягивают трутней к пчелиной королеве. Элинор благосклонно выслушивала их комплименты и посмеивалась над остротами, придерживаясь привычной линии поведения. Улыбка краешком рта, взгляд из-под полуопущенных ресниц и меткий комментарий. Баланс между тем, чтобы никого не обделить вниманием и никому не подарить надежду.
Между тем, за всей этой мишурой кокетства не пряталось большого интереса. Поклонники были давними и уже успели ей опостылеть; их разговоры всегда начинались с погоды и литературы, продолжались философией и опускались до бытовой психологии. Поэтому Элинор давила зевки, невзначай посматривая на часы на каминной полке и ожидая, когда подадут ужин. Как и всегда, аппетита у нее не было.
Когда пухлощекий Монгре, похожий на младенца во фраке, заговорил о Гегеле, Элинор, извинившись, покинула круг. Четыре пары глаз проводили ее с сожалением: кроме общего объекта обожания, их мало что связывало. Да и, надо думать, «Феноменология духа» отнюдь не была их излюбленной темой.
Элинор не спеша переходила из одной залы в другую, боясь ненароком перехватить чей-нибудь взгляд и быть затянутой в очередную утомительную беседу, куда ее зазывали ради того, чтобы погреться в лучах ее красоты и молодости. Она так привыкла к тому, что ее воспринимают исключительно как усладу для глаз, что часто не утруждала себя следить за нитью разговора и говорила невпопад. Эту черту мужчины находили «бесконечно очаровательной», а женщины злобно закатывали глаза. При этом Элинор отнюдь не была дурой — просто ей было невыносимо скучно.
Выпитое на пустой желудок вино навевало на нее сон и, чтобы немного взбодриться, а заодно перехватить пару минут одиночества, она вышла на балкон. Но здесь ее ждало разочарование: единственное, по ее расчетам, тихое место в доме было оккупировано сутулым молодым человеком, со смаком выкуривавшим едкую сигару. Элинор знала его как Гордона Колдблада, близнеца застенчивого Финнегана: одного из тех четверых поклонников, от которых она сбежала пятью минутами ранее.
Услышав шум открываемой двери, он обернулся, сигара съехала на кончик рта:
— Леди Элинор, какой сюрприз. Где же ваша свита?
— Кажется, всерьез увлечены Гегелем, — весело бросила она, ни капли не смутившись непривычно холодным приемом.
— Ну да, — усмехнулся Гордон. — Поддержание разговора о высоких материях, когда в голове сплошь низменные мысли — это, определенно, требует особого мастерства.
— О чем вы говорите? Они приличные молодые люди.
— А я разве утверждаю обратное? Только о Канте, Гегеле и Ницше у них самые поверхностные представления. Вряд ли они вообще читали что-то кроме школьных конспектов. И абстрактные концепции обсуждают, чтобы завоевать ваше расположение. Слыть интеллектуалом сейчас, знаете ли, модно.
Элинор заметила, что его плечи и волосы припорошены снегом, а нос пунцовеет на льдисто-бледном лице — должно быть, он был здесь с самого начала приема. Она опустила глаза вниз: то тут то там на белом снегу виднелись кучки пепла.
— Вы не угостите меня сигарой?
— И не подумаю.
— Нет?
— Нет. Только ценитель может по достоинству оценить этот сорт: вы же задохнетесь дымом. А запах, который после вы принесете с собой в зал, только подмочит вашу репутацию. Знаете, степень эпатажа должна быть обратно пропорциональна числу завистников: и вы себе экстравагантные выходки позволять не можете.
— Вот как? По-вашему, у меня много завистников? — она обхватила себя за плечи, жалея о том, что оставила в зале свою песцовую горжетку: подарок отца на восемнадцатилетие.
— Как же иначе, когда вы единственная красивая женщина в зале, — Гордон затушил сигару о пилястру и щелчком сбросил ее вниз. — Другие смогут ослабить корсеты только, когда узнают о