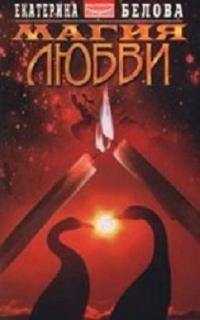и определённо самая хитрая из них нависла над ней белым шатром. На ткани гигантских лепестков блестели капли внутриутробной жидкости. Ли резко развернулась и обняла ее всем телом, и мерзкая жидкость забарабанила по ее спине, разъедая зелёную плоть.
— Что ты делаешь? — воскликнула Ясмин с ужасом.
С усилием оторвала тонкие зелёные руки, обвившие ее с невиданной силой, и оттолкнула маленькую Ли из-под ядовитого дождя.
Ещё не хватало, чтобы ее защищали дети! Пусть даже и ненастоящие. Разве не должно быть наоборот?
Она встала, выпрямилась, и лилия наклонилась ближе, как магнит, влекомый сталью.
Если Ясмин хоть что-то понимала, они здорово проигрывали. Атаки Верна попадали в цель лишь в одном случае из пяти. Он торопился, злился и расходовал силы вхолостую. Силы Хрисанфа были почти бесполезны. Умные лилии разделили их с Верном — вдвоём они представляли из себя более грозную силы.
Абаль — единственный, кто мог противостоять противнику, был выведен из строя. Если она верно помнила курс анатомии, ему потребуется не одна неделя на восстановление ведущей руки. Она бы поставила месяц.
И малышка Ли. Детям нечего делать на поле боя.
— Держись за спиной, — сказала ей Ясмин.
Улыбнулась.
Она не имела ни малейшего понятия, что делать. Самым разумным было шагнуть навстречу, чтобы изолировать от атаки остальных членов группы, поэтому она шагнула.
Ведь это она не пожелала отвечать на вопрос.
Потом зачем-то обернулась к Абалю. Его рукав окрасился в красный, словно облитый детской гуашью, а шест оказался уже в левой руке. Глаза — тёмные бездны — смотрели прямо на неё.
— Отойди, — сказал он одними губами.
Она услышала, потому что теперь у неё был голубиный слух.
Кивнула, а после посмотрела на лилию. Та нависла над ней и медлила, как гурман перед обедом. Смакуя неуловимым взглядом. Лепестки мягко опустились на плечи. Они были отвратительно склизкими и тяжелыми, вызывая ассоциацию с говяжьей печенью, и Ясмин невольно подняла ладонь, словно отталкивая.
Тело коротко прострелило омерзением.
Ладонь прошило разрядом и вместо лилии перед ней оказался какой-то дурацкий обугленный остов. В детстве она делала тыкву из проволоки и сейчас лилия была очень похожа на такую гигантскую тыковку. Чёрный проволочный каркас, который ещё не обтянули тканью.
— Что? — спросила она с недоумением.
Снова обернулась к Абалю за подсказкой. После поискала взглядом другие лилии.
Проклятые белоснежные твари стояли перед ее носом плотной стеной. Их было не просто много — их было очень много.
— Боже дорогой, — сказала она, не особенно понимая собственные слова.
Пространство словно завесили холодным, набухшим влагой шёлком. Она дернулась вбок, но и там были лилии, и скоро она уже не видела ни Абаля, ни Ли. Ни тем более Хрисанфа или Верна.
Она зажмурилась от отвращения и снова толкнула пространство ладонями, не особенно рассчитывая на результат. Но когда открыла глаза, две преследовательницы лежали на камнях — одна зияя чёрной дырой в белом теле, а от второй остались только вертикальные спицы рёбер, на которых когда-то крепились лепестки.
Толкнула снова. И снова. Она просто чувствовала ладонями пространство, как если бы оно имело плоть. Зачерпывала ладонями этот сырой плотный воздух, комкала и отбрасывала. В голове не осталось ни единой мысли. Она просто зачерпывала и отбрасывала. Зачерпывала и отбрасывала.
В голове у неё помутилось, а к горлу подкатила тошнота. Руки горели от боли, словно она окунала их в кипяток с каждой атакой.
— Мастер!
Крик Хрисанфа.
— Гниль болотная! — Верн. — Да делай, что угодно, не надо мне ныть про не слушаются приказа! Это ты хозяйка чертового поля приказа, а не я!
Тихий тонкий звон, который словно шёл от гибкого тела Ли, которая после каждого удара распадалась на тонкие полосы цветов и вновь собиралась в целое, чтобы прикрывать ей спину.
Голоса Абаля она не слышала, но интуитивно ощущала его рядом. Много ближе остальных. Он двигался к ней сквозь сырую тяжелую стену лилий.
А после, когда она уже не могла толкать, все резко закончилось. Лилии вдруг отпрянули от нее, легли на песок огромным веером, словно открывая проход, и она, пошатываясь двинулась вперёд.
После вскинула взгляд и вдруг увидела свою награду за испытания. Кажется, она заплакала, потом побежала.
Впереди стояла мама и смотрела на нее спокойными серыми глазами.
Эмоции у неё притупились только к самой ночи.
Она вцепилась в мать намертво и не отпускала ни на шаг. Не слышала слов, не видела лиц. Кажется ее приманивали обедом и ароматной ванной. Ха-ха, придурки. Она не отойдёт от своей драгоценной иллюзии ни на шаг.
— Мама, помнишь вишни?
— Конечно, — сказала мама.
Ее голос, ее глаза, ее лицо. Разве что тоньше, чем она помнила и в дурацкой широкополой одежде, даже не схваченной поясом. Серая скользкая ткань текла по ее телу, подчеркивая невыносимую худобу, усталость, морщинки. Маленькие руки ощущались жесткими и шершавыми от постоянной работы, ногти были коротко обрезаны, но покрыты защитным лаком.
— Ты любишь красный, — сказала Ясмин. — Тебе он идёт.
— Он хрупкий, — засмеялась мама. — Полдня и нет маникюра. В Чернотайе жесткие условия существования, специфика растениеводства и земледелия плохо соседствует с красотой и не прибавляет молодости.
— А сказки помнишь? Ты рассказывала на ночь. Одна ночь — одна сказка, каждый день, ты никогда не пропускала.
Иногда в их спутанных словах, которые только и делали, что наслаивались друг на друга, проскакивали неловкости. Шероховатости. Воспоминания были похожи, но не совпадали.
У неё было любимое платье, но вовсе не синего цвета, она действительно упала и разбила коленку, но не из окна, а кувыркнулась с качелей. Ее хлестнуло веткой и на брови на всю жизнь осталась тонкая полоска, но это была ветка осины, а не ореха. Ее любимая сказка — Золушка, а не Белли-алые башмачки.
Но мама смеялась и смеялась, и тоже не отпускала ее от себя.
Они распались только к вечеру.
— Я приду к ночи, — шепнула мама. — Ты должна поужинать, принять ванну, сменить платье, увидеть свою комнату.
Ясмин, сияя, как тысяча люфтоцветов, прошла через холл, залитый солнцем от пола до потолка, звякнула стеклянным, отделанными золотом и серебром дверями, поднялась по старой темной лестнице. Та пряталась в самом углу и мало напоминала парадную, но вела под самую крышу, где пряталась ее детская. Лепилась, как ласточкино гнездо, к самому краю дома.
Все, как в ее воспоминаниях. Огромная кровать, занимающая половину комнату, тяжелый темный письменный стол, вплотную соединённый с кроватью, резной стульчик. Двойная скамейка для ног — без неё