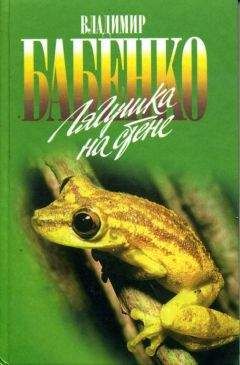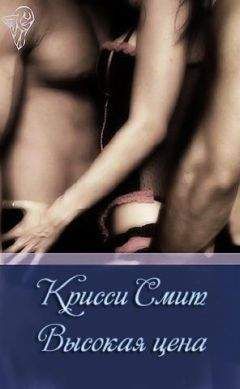– Тебе туда? Иди, иди, не пахнет, – ласково сказала старушка, за повисшую руку уводя мальчика. – А Петенька у нас больной, неполноценный. Заходи к нам, телевизор будем смотреть.
Старушка толкнула стену, в стене оказалась незаметная дверь, открылась комната, полная зеленого золота. Между окнами лежала горками уложенная антоновка, и, напитавшись солнцем, уже светила сама, и каждое яблоко было обведено мреющим венцом. Белые подзоры на высокой постели, толстой домашней вязки. Умильно светила маленькая красная лампада под иконами в правом углу.
– Как у вас хорошо, – щурясь от сочного пахучего света, сказала Анна, ступая на пестрый опрятный половик.
«Тут – рай», – подумала она.
– И вправду хорошо, – заулыбалась старушка. – Мы с Петенькой хорошо живем, чего Бога гневить. Я на Петеньку заказы получаю в магазине. Спец – называется магазин-то. Телевизор по талону купили. Дочка моя померла, стеной ее на производстве задавило. Царство ей небесное! – Старушка важно перекрестилась. Медленно и низко поклонилась иконам, легко выпрямилась. – Вино пила от жизни. А добрая была, всех жалела. Муж-то ее теперь от алиментов бегает, да Бог с ним. У него дети пошли хорошие, здоровые, пусть его. Нам с Петенькой хватает. – Старушка рассказывала с ласковым удовольствием, видно, не единожды повторенное. – Вот только Лариска, соседка моя, что комнату тебе сдала, со всеми лается. А как ей не лаяться, если она собак рожает и продает. Три сучки держит и кавалера к ним. Большие деньги берет. А потом через организацию ихнюю собачью продает. Собаки страшные, не приведи Господь. Все морды в репьях. А какая прежде, до Лариски, девушка тут жила… Да ты садись, садись.
Анна села, и тут же перед ней сама собой появилась чашка с горячим чаем, а в стеклянной вазочке – крупный колотый сахар.
– Какой у вас чай! – Анна с наслаждением сквозь пористый сахар всосала горячий чай. – Давно с таким сахаром не пила.
Клеенка на столе чистая, не липкая, была тоже обвязана кружевом, и это понравилось Анне, никогда такого не видала.
– Все вяжу, вяжу, кружева всякие, не могу долго этого врага смотреть, – старуха указала локтем на телевизор, заботливо укутывая чайник чем-то теплым. – Говорят, где иконы, нельзя телевизор держать. Так у нас помещение одно, не разбежишься. А ниток сейчас нет, не вяжу больше, весь запас извела.
Анна даже не заметила, как в глубокой тарелке появилась желтая, готовая расколоться от спелости антоновка, а рядом толсто нарезанная колбаса.
– Мне лучше еще чаю, если можно, – попросила Анна.
– Ты пей, умница, не брезгуй, – обрадовалась старуха, – вот девушка, ну, что до тебя в комнате жила, где теперь Лариска. Тоже приходила чай пить. Любила. А Лариске я говорю: «Язвы на тебя нет». Вот грех-то, ругаться меня заставила. – Старуха, осуждая себя, с укоризной покачала головой.
Девушка, Лариска… – эти чужие слова обтекали Анну. Она только думала, вот допьет чай и удобно ли попросить третью чашку, такая жажда мучила ее.
– Хорошая девушка тут жила, – старуха, пристукивая чем-то во рту, плела свой рассказ. – Петеньку моего любила. Я только об одном и молюсь, чтоб Бог Петеньку до меня прибрал. Вот как он помрет, и я спокойна буду. Хорошо бы так, правда, Петенька? – Она ласково погладила мальчика по короткой челке. Он прозрачно и неотрывно глядел на Анну, и квадраты на его ковбойке располагалèсь неестественно ровно. – Вдруг забогатела соседка моя. Ктой-то у нее заимелся, не поймешь, муж он ей или кто. Стала она Пете подарки дорогие носить, конфеты в коробке. Курточку ему купила большую на вырост. С карманами. А он карманов не понимает. Тут этот муж ее или кто он ей, стал другую водить сюда, когда соседка моя на работе. Моя-то как тростиночка, а эта красивая, с жирком. А тут случай. Приболела она, а этот, бессовестный, и привел свою с жирком. И целует ее. Слышу, моя-то закричала не своим голосом. Я выбежала, смотрю, она в одном халатике, а в руке яблоко зеленое. И мимо него прямо в дверь. А ведь зима, холодина, а она как есть в одном халатике. Ну, думаю, у подружки какой отогреется. Вдруг милиция к нам. Все записали. Замерзла она. Ведь в одном халатике.
– В халатике? – мертвыми губами повторила Анна.
– Ну да. А такая хорошая была девушка. Все пончики Петеньке носила. Царство ей небесное, – старушка не спеша перекрестилась. И вдруг вскинула на Анну испуганные глаза. – Христос с тобой, девонька, что ты так смотришь? Худо тебе? Да ты ляжь, ляжь!
– Как ее звали? Как? – еле выговорила Анна.
«Пончики, пончики», – подпрыгивая, донеслось откуда-то.
– А Наташа. Наташа ее звали, – сказала старуха.
– Интим, интимчик… – сладко и фальшиво напевал Лапоть. Он надоедливо двигался по комнате, ласково, с оттяжкой поглаживал мягкие спинки стульев. – Куда деваться? Спасаться-то как? А? Выпить, посидеть с красивыми женщинами. Летим в тартарары. Хоть кусочек интима урвать. – Лапоть выключил верхний свет.
Анна и Мариша сидели рядом на диване. Андрей провалился в низкое кресло. Столешница перерезала его по грудь.
«Полчеловека, ужас какой-то, – со страхом подумала Анна. – И не шевелится».
Анна ничуть не удивилась, когда увидела на столе бутылки с яркими этикетками. Сыр нарезан тонко и ровно. Его Лапоть взглядом режет: чик, чик! Черные маслины шевелятся, блестят. Все. Лапоть опять взялся за свои доставалки.
– Именно, именно. Взглядом, взглядом, – невнятно пробормотал Лапоть. Повернувшись на каблуке, снова включил хрусталь под потолком. Анна почувствовала: заостренные треугольники света впиваются в кожу.
– Нет, не могу, умираю, должен вас видеть! – от восторга зашелся Лапоть. – Две такие женщины за столом. Красавицы. Редкость. Да посмотри же, Андрюша! – Лапоть закатил глаза, проглотил что-то скользкое, голос его запрыгал быстрее. – Главное – благородство! Не думайте, Мариша, мы все-все про вас знаем. Анюта рассказывала.
Мариша сидела очень прямо, маленькие уши пылали, щека ее, повернутая к Андрею, разрумянилась. Левой рукой она все оттягивала и отпускала тонкую цепочку. Черное густое вино отхлебнула Мариша из рюмки.
– Вспомнил, ваша шея, шея! – восхищенно воскликнул Лапоть. Он любовно вылепил руками из воздуха что-то длинное, узкое, как горлышко бутылки. – Шея ваша! Ну, этот еврей, еврей, о нем теперь все так прямо и пишут: итальянский еврей в Париже. Как его, э… э? – В усилии вспомнить, Лапоть защелкал пальцами.
– Модильяни, – спокойно подсказал Андрей.
– Модильяни! – как мошку, склюнул это слово на лету Лапоть. – Именно, именно. Андрей, во человек! Все знает. Шея, Модильяни, сметана, изваяние! Живой Модильяни!
– Что вы, Эдик, – Мариша опустила глаза, стараясь пригасить их счастливый блеск. Низким своим голосом рассмеялась, голос женственно завернулся мягкими складками.