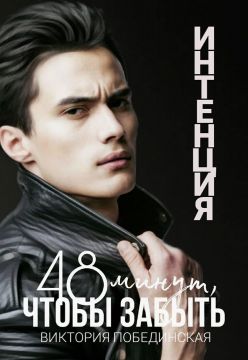Давай, Ник, беги. Беги, как ты всегда делаешь! И дверь за собой захлопни!
Тишина.
За окном завыла медицинская сирена. Надо было уходить, но я застыл, словно цементом облитый у порога.
Виола поднялась, медленно подошла ближе. Ее глаза блестели так, словно она вот-вот заплачет, и мне хотелось уничтожить чувства, что рождались внутри в этот момент. И без них было тошно. Она открыла дверь, провожая меня, и тихо спросила:
— Если ты так упорно пытаешь доказать, что тебе никто не нужен, что ж тогда такой одинокий?
Вместо ответа я развернулся и вышел прочь. Просто сбежал.
Что я мог ей сказать? Что никогда не стану тем, о ком она мечтает? Что не смогу жить жизнью простых людей? Что не умею даже любить по-человечески?
Я выскочил на улицу, чувствуя, что еще чуть-чуть и со всего размаху вмажу кулаком по идеально белой стеклянной вывеске с липовым названием фирмы, которым прикрывался Коракс. Так и видел, как старик Уоррингтон метнулся бы навстречу, рассыпаясь проклятьями, а пострадавшая табличка — крошеными стеклами. Как идущие мимо прохожие, на секунду остановившись, развернулись бы вполоборота, но тут же, отводя безразличные взгляды, зашагали дальше. Это не их беда.
И может, стало бы легче. Хотя бы на мгновение боль в руке перекрыла жжение в груди.
Я с детства знал, что боль можно продышать. Вдох носом — резкий выдох ртом. Любая боль — кратковременна, нужно только перетерпеть пик.
Только в тот раз не сработало. Эта травма была иной, словно от нее не существовало никаких анальгетиков, кроме хрупких рук, покрытых веснушками губ и глубины синих глаз, к которым меня тянуло с непреодолимой силой.
И это означало лишь одно — я конкретно влип!
Занавес!
***
Пихнув плечом дверь и не включая свет, я бросил ключи на тумбочку и рухнул на диван, приложившись головой о подлокотник. Рука с зажатым в ней телефоном соскользнула вниз, касаясь пальцами пола. И наступила тишина.
На стене тикали часы, и, казалось, я в состоянии расслышать даже хруст вращающихся шестеренок. А может, это мысли, застревая, скрипели друг о друга.
В коридоре послышались голоса, входная дверь распахнулась, впуская полоску желтого света. Не включая лампы, Арт хлопнул дверью и протопал на кухню. Я молча следил за перемещающейся по комнате фигурой.
— С возвращением!
Он обернулся на голос, но ничего не ответил. Обычно так Кавано выражает свой протест. Только на этот раз против чего? Или кого? Я не знал.
Будь у меня побольше сил, я бы попытался ухватить причину, но все, чего я хотел, чтобы меня оставили в покое. Я чувствовал себя как разбитая чашка, в которую сколько не лей, все равно до конца не заполнится. А значит, можно еще добавить. Удивительно, как я продержался целый день, умудрившись никого не прибить при этом.
— Сколько мы дружим, а, Ник? — вместо приветствия вдруг спросил он.
Если ему захотелось пофилософствовать, то мне было не до этого. Я медленно выдохнул:
— Слушай, Арт. Давай позже? У меня был просто отвратительный день.
Свет зажегся, и я, присев, прикрыл рукой глаза. В комнату вошел Шон, бросил в угол спортивную сумку и принялся стягивать ботинки. Арт, поморщившись, кое-как затолкал свой рюкзак в забитый хламом шкаф и привалился к нему плечом, старательно делая вид, что спокоен. Хотя, судя по тому, как дергалась его нога, в его голове происходили настоящие баталии.
— За все это время я хоть раз тебя подставил? — спросил он. Сдержать раздраженный тон все же не удалось.
— Арт, успокойся, сейчас он объяснит, — перебил Шон. В отличие от Кавано, повреждения которого выдавал только выглядывающий из-под кофты хвостик бинта, Рид выглядел весьма потрепанным. Кулаки разбиты, на скуле уже желтеющий синяк. На какие сборы они ездили?
Я поймал его взгляд, вопросительно подняв брови, но друг покачал головой, мол, разбирайся сам.
— Хорошо. — Я прищурился от бьющего в лицо света и, опираясь локтями на колени, спросил: — Какое еще дерьмо случилось?
Арт резко развернул голову и, яростно блеснув глазами, произнес:
— Это дерьмо называется дружба. С тобой.
— С чего вдруг такие наезды?
— Ты мне скажи, — развел он руками. — А заодно поясни, какой я недоумок, что до сих пор не догнал, что ты меня «спас», оказывается? И почему слышу об этом от твоего американского дружка?
Шон застыл у порога, наблюдая за нашим зрительным поединком.
— Что бы я не сделал, это было для твоего блага, — спокойно произнес я, пытаясь сдержать злобу. Не на Арта, скорее, на себя. За то, что довел одного из нескольких людей, по доброй воле терпящих меня рядом.
— Мне-то не ври! — выплюнул он. — Или ты считаешь, я в восторге, когда меня прилюдно отделывают? Перестань лезть в мою сраную жизнь и решать там что-то!
— Арт, остынь! — Шон выставил перед ним руку.
— Ты встаёшь на его сторону? — закричал он, готовый сорваться с катушек и накинуться на меня, несмотря на сломанные ребра.
— Я ни на чью сторону не встаю, — медленно ответил Шон, отчего Арт подавился возмущенным вдохом.
— Арт, послушай… — В этот раз получилось ровнее, но наигранное спокойствие не могло скрыть давящую на горло злость.
— Да не хочу я тебя слушать! — прошипел он в ответ. — Ты эгоистичный кусок дерьма!
— Какого черта я вообще перед тобой тогда оправдываюсь? — проснулась внутри ершистая тварь, отвечающая за большинство моих идиотских поступков.
— Действительно! Человек, который никогда ни перед кем не оправдывается! — выплюнул Арт с ядовитой насмешкой, развернулся и, схватив свой телефон, крикнул: — Я ухожу.
Прошло несколько секунд. С языка уже готова была сорваться очередная колкость, но спас Шон, коротким:
— Дров только не наломай.
— Не дурак, — бросил Арт через плечо и хлопнул дверью.
В конкурсе на самый паршивый день я бы взял золото. Однозначно.
Шон опустился рядом на диван.
— Хреново выглядишь, — сказал я первое, что пришло на ум.
—