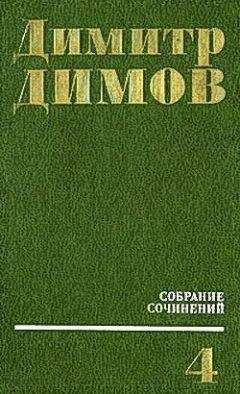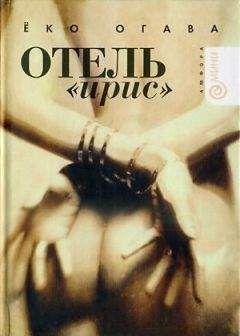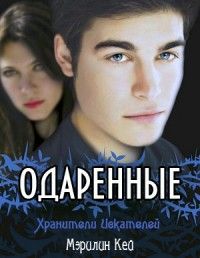— И что же, тебе давали книги? — поинтересовался барон.
Гвен выдохнула с облегчением. Похоже, он не заподозрил, что она недоговаривает, и просто продолжал праздную беседу.
— Да… Я сама брала, — не сумев откровенно солгать, поправилась она. — Я ведь помогала старухе Адайн с домом. Она не замечала, что иногда что-то пропадает. Но я всегда всё возвращала. Честное слово, ваша милость! Всегда!
Барон улыбнулся. Несмотря на все её старания, он явно видел в ней повод для веселья.
— Я ведь не стражник и не градоначальник. Мне дела нет до мелких шалостей. Зачем ты оправдываешься? Лучше ответь, как тебе позволили всё это? Разве жизнь крестьян не так тяжела, как это доносят советникам, и у вас есть время на занятия по душе?
Каким-то образом Гвен поняла, точнее, почувствовала, что сейчас можно ничего не бояться, что господин барон не обвиняет её и вообще скорее подшучивает, чем говорит всерьёз.
— Но я ведь тёмная, — хитро улыбнулась она, догадываясь, что не встретит осуждения. — Если меня обижать, могут случиться неприятности!
— И это действительно останавливало людей? — скептически уточнил барон. — От тебя могли бы просто избавиться, собравшись вместе.
— Ну-у… Ещё я приносила пользу. Это староста запретил меня обижать, — призналась Гвен. — Взамен я следила за общественными полями — ну, знаете, уничтожала вредителей, развеивала тучи в мокрые года…
За это она действительно получала покровительство. Которое заключалось лишь в том, что никому не позволено было её сильно бить или обругивать. Да, это значило многое, но счастья не приносило. Гвен всё равно была чужой. И никакая сила не могла заставить её мать повернуться к дочери, переброситься хотя бы парой слов, никакая сила не могла заставить соседских детей с нею заговорить.
Её жалкие, смешные попытки с кем-нибудь подружиться всегда наталкивались на стену настороженного молчания. Что там, даже родная мать, даже братья и сёстры не желали с ней разговаривать. Делали вид, будто её не существует, обращались только по делу, а когда она заговаривала сама, делали вид, что не слышат.
— Получается, ты устроилась не так уж плохо, — отметил господин барон. Конечно, с произнесённых слов он никак не мог заключить иначе. — Тогда почему ты так стремишься попасть в Академию? Ведь могла бы жить у себя спокойно и без забот.
Это было слишком. Слишком больным и тяжёлым был этот вопрос, чтобы дальше думать, выбирать нужные осторожные фразы.
— Вы не знаете, ваша милость, что такое быть для всех посторонним, — выдавила Гвен. Было странно, что искренние слова, идущие от сердца, даются с таким трудом. — Что такое проводить жизнь в безмолвии, когда все вокруг болтают и смеются, но стоит тебе подойти, расходятся прочь. Когда родная мать только отдаёт приказания на завтрашний день, а в ответ на пожелание доброй ночи лишь фыркает и отворачивается, а братья и сёстры даже не смотрят в твою сторону… Мне нет здесь места, ваша милость. И если я не заслуживаю лучшего, я готова умереть, но не влачить десятилетиями жалкое существование никому не нужной дикарки Гвен.
Она замолкла, и барон тоже не торопился нарушать тишину. Теперь, после приступа откровения, Гвеннет уже была готова пожалеть о своём порыве. И всё же что-то внутри мешало. Что-то, кричащее о том, что только теперь, впервые она была самой собой не в мечтах, а перед кем-то, впервые открылась другому человеку. И жалеть об этом — то же самое, что отречься от себя, от всех прежних мечтаний. Согласиться с тем, что она на самом деле всего лишь дурнушка Гвен, возомнившая о себе слишком много и на самом деле заслуживающая лишь жалкую лачугу и колотушки вместо обеда.
Превозмогая себя, она гордо вскинула голову, как это делали дамы в книжках старой Адайн. Она была готова к чему угодно — к смеху, гневу, недоумению, снисходительному равнодушию… Но барон ответил неожиданно серьёзно.
— И ты решила сбежать? Думаешь, что в Академии будет иначе?
Гвеннет на самом деле думала так. Она знала, что никто не стремится туда попасть, но также знала и о том, что в стенах учебного заведения оказываются и такие, как она. Одарённые простолюдины. Если она будет молчать о своей прежней жизни, о своей истории, о добровольном желании попасть в Академию, разве не сможет она стать своей среди таких же отправленных учиться? Не может ведь такого быть, чтобы во всём большом мире человек никому не был нужен.
Она не успела придумать подходящего ответа, как барон заговорил снова:
— Может, в обычных условиях тебе бы и повезло. Но твой дар… Ты ещё сама не понимаешь, насколько ты удивительна, ведь так? Боюсь, одиночество всегда будет твоей судьбой, девочка.
Глава 4
Де Триен редко испытывал к кому-нибудь сочувствие. И так же нечасто проникался к людям уважением. За годы не самой лёгкой службы он привык сталкиваться с не самыми лучшими проявлениями человеческой натуры и постепенно утвердился во мнении, что достойных людей вокруг не так уж много. И даже если кто-то кажется таковым, возможно, это лишь потому, что ещё не подворачивалось случая проявить свою дурную сторону.
Однако эта крестьянская девчушка умудрилась пробудить оба редких для императорского советника чувства. При её непростой жизни сохранить в себе упорство и твёрдость духа, причём направить их не на месть обидчикам, а на поиск лучшей судьбы — это дорогого стоило. Жаль, что шансов на успех у неё мало.
Барон не позволил себе долго предаваться сентиментальности. Нужно было отправляться в дорогу, тем более что с девчонкой путь, скорее всего, растянется на несколько лишних дней.
Было бы проще поручить её местным властям, чтобы обеспечили отправку вместе с остальными обнаруженными в провинции молодыми магами, но раз уж решено пока не вносить её в списки, этого тоже никак не сделать.
Одно хорошо, Гвеннет выглядела вполне бодрой, отвечала связно, значит, успела восстановиться за ночь.
— Иди за стол, позавтракай, — позвал он.
На лице девушки отразилось благоговейное потрясение.
— Завтракать с вами?! За одним столом?
Несмотря на то, что в ней не наблюдалось характерной для простонародья робости, преклонение перед знатью явно никуда не делось. И эта непредсказуемость забавляла. Не выказать ни тени волнения, проснувшись в чужой постели, но так всполошиться из-за пустяка — подобного барон ещё не встречал.
— Потом у тебя не будет времени на еду, — объяснил он. — Скоро отправляемся в путь, остановимся только на ночлег. Надеюсь, ты умеешь держаться в седле?
Девушка кивнула, хоть и без особой уверенности. Оставалось понадеяться, что её навыков хватит, чтобы путешествовать так, как он привык. Де Триен всегда предпочитал передвигаться верхом — это было быстрее, да и приятнее, чем трястись по ухабам в карете.
Ещё немного помедлив, Гвеннет решилась воспользоваться приглашением. С неизвестно откуда вдруг взявшимся смущением вылезла из-под одеяла, суетливо попыталась расправить смявшееся за ночь платье. Не забыла подойти к простенькому глиняному рукомойнику, висевшему в углу комнаты над неглубокой деревянной лоханью, и поплескать водой на лицо. И только потом неуверенно, будто нехотя приблизилась к столу и примостилась на краешке свободного стула.
Де Триен нетерпеливо подвинул ей чистую тарелку.
— Бери, что хочешь, еды здесь хватает.
Гвеннет кивнула, но набрасываться на пищу не спешила, хотя со вчерашнего дня должна бы проголодаться. И только перехватив искоса брошенный в его сторону неуверенный взгляд, барон вдруг понял, что девчушка до ужаса стесняется. Стыдится своего неопрятного вида, неумения правильно держаться и пользоваться приборами. Неожиданная щепетильность для простушки. С этой девчонкой не соскучишься!
Наскоро доев свою порцию, он встал и направился к двери, чтобы не смущать её ещё больше.
— Пойду, распоряжусь насчёт лошадей. Ешь.
Он уже переступил порог, когда вслед донёсся длинный прерывистый вздох. Удивлённый барон обернулся. Поняв, что привлекла внимание, Гвеннет густо залилась краской.