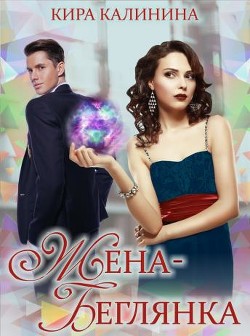На столике у дивана стояла перламутровая коробочка. Агда напевала мотив какой-нибудь модной песенки, и коробочка повторяла его на разные птичьи голоса. То соловьем зальется, то канарейкой, то дроздом…
Нет, не только птичьи!
В ответ на хрустальное «ла-ла-ла» Агды коробочка сперва бодро затявкала, потом размяукалась, как голодный кот.
– Хватит играться, – просипел Льет.
Он восседал в глубине комнаты, закинув ногу на ногу. Под черным, с серебром, шлафроком – свободные штаны и рубаха с распахнутым воротом.
Что же вы так далеко от окна расположились, благородный кавалер? Вас еле слышно.
– Пускай играется, – прозвучал низкий скрипучий голос, мужской или женский, непонятно. – Когда… гра… а… не… мо…
«Когда играться, как не в молодости?»
Выше щелка расширялась. Я приподнялась на задних лапах и уткнулась носом в ледяное стекло, силясь рассмотреть: кто там такой?..
Надо же, старуха – и престранная!
Она сидела в дальнем кресле, полускрытая боковиной высокой изогнутой спинки. Строгое темное платье, как у нашей классной дамы, на плечах толстый пуховый платок, какие носят крестьянки в деревнях, на голове узорчатая шапочка-колпак с коротеньким шпилем – точь-в-точь ланнский рыцарский шлем. По ободу шапочки пришиты кругляшки, не иначе старые монеты. В таких колпаках с монетками красуются на ярмарках дазские шаманки.
– Так сколько, говоришь, за платье просят?
Она подалась вперед, повернула к Льету голову, и стало видно, что и лицо у нее дазское – плоское, цвета темной бронзы, с маленькими глазками и мелкими угловатыми чертами.
Говорят, дазы в родстве с нашими гобрами. Только гобры сидят в своих снежных домах на далеком севере в обнимку с тюленями и в чужие дела не лезут.
– Тысячу восемьсот, – ответил Льет.
Верно, так мама ему и сказала. Пятьсот – задаток будет.
– Недешево, – старуха пожевала сухим ртом.
– У Кольдихи бы меньше пяти не стало! – барышня Агда оторвалась от своей забавы.
Я не сразу сообразила, что Кольдиха – это Вендела Кольд, самая знаменитая модистка Альготы. И самая дорогая. У нее одевались первые аристократки Ригонии и сама королева-бабушка.
– Может, и больше, – кивнула старуха. – А все равно шить надо у нее.
– Чего это? – буркнул Льет. – Мне деньги не лишние.
– А того! – старуха хлопнула ладонью по деревянному подлокотнику. Хлопок вышел со стуком – все ее пальцы, включая большой и указательный, были унизаны кольцами. Непохоже, что золотыми или серебряными, а какими, рассмотреть не удалось. – Тут не в деньгах дело, а в престиже. Чтоб все знали: Эмкино платье сшито у королевской портнихи!
«Не портнихи, а модистки», – мысленно возмутилась я, ежась под леденящим ветром. Портнихи просто шьют, а модистки придумывают и украшают. И только в следующий миг сообразила: «Эмкино платье»? Может, я ослышалась?..
– Но мне это нравится, матушка Гиннаш! – надулась Агда. – Другое не хочу!
– Молчи, Эмка, – одернул ее отец. – Матушка дело говорит.
И столько уважения прозвучало в этом «матушка», что я своим кошачьим ушам не поверила: чтобы самодовольный кавалер чтил кого-то, кроме себя, да не просто кого-то, а дазку, похожую на ведьму из страшных сказок!..
Когда ланны пришли в Ригонию, вслед за ними пришли дазы, как шакалы приходят за волками. Ланнов прогнали, а дазы живут себе не тужат. Торгуют, воруют, практикуют темную волшбу. Раньше дазов даже в города не пускали, они селились в слободках за воротами. А правили у них женщины-шаманки – когда через вожаков-мужчин, а когда и напрямую.
И это единственное, что мне в дазах нравилось.
При королеве Клотильде Ригония расцвела – сколько мудрых законов было принято, сколько нужных реформ проведено! Магию стихий поставили на службу стране. Ни один король столько не сделал. Молодой Альрик прославился пока лишь тем, что принял силу дождя, чтобы не угасла вместе с родом Регенскур, присовокупив ее к собственной силе. И неизвестно, хорошо это или плохо. Говорят, таких морозов, как нынче, не бывало уже полвека. Вдруг одно с другим связано?
А я, между прочим, сейчас превращусь в ледяную кошку…
Но от следующих слов загадочной матушки Гиннаш меня кинуло в жар.
– Нравится, так и славно, – старуха улыбнулась. – Фасон зарисуй, Кольдихе покажешь, она такое же сделает.
– Но я не запомнила! Там сложно…
– Тю! Пойдешь завтра на примерку, все рассмотришь как следует, пощупаешь, а потом скажешь, что тебе разонравилось. А ты, – обратилась старуха к Льету, – дашь им сотню за труды, пусть радуются. С таким женихом негоже у всякой деревенщины свадебный убор шить…
Я чуть с карниза не свалилась от возмущения. У деревенщины?! Да у нас баронессы платья заказывали! Два раза. И маркиза один раз… чуть не заказала.
– С таким женихом разориться недолго, – насупился Льет.
– Это верно, – согласилась старуха. – Мог бы раскошелиться на платьице-то, сделать невесте подарок. Хоть бы в гости пригласил приличия ради. Ты ж ему весточку послал?
– А как же! Загодя, – кавалер фыркнул. – Едем, мол. Везем будущую супружницу вашу к Свену и Свяне за благословением… Эмка, ты чего?
Барышня, как бы ее ни звали на самом деле, села столбиком и слушала их разговор, бледнее снега за окном, а потом вдруг заревела в полный голос. Коробочка-игрушка отозвалась поросячьим визгом.
За этим переполохом было не слышно, что говорят кавалер (если он кавалер, конечно) и таинственная матушка. Вернее, не говорят, а кричат. Когда старуха несильно шлепнула барышню по щеке и та умолкла от неожиданности, голос Льета прогремел, как пушечный залп:
– Не реви, дура! Все к лучшему!
Барышня всхлипнула:
– Куда же к лучшему? Он меня больше не любит!
– С чего ты взяла?
– Любил бы, не отдал этому…
Она опять заплакала. Коробочка, как видно, откликалась только на ее голос, и сейчас разразилась громким кудахтаньем.
Старуха пересела на диван, обняла барышню и, склонившись к самому ее уху, принялась уговаривать. До меня долетали обрывки слов и фраз:
– Кто ты сейчас? Никто! А будешь…
– …он должен жениться, сама знаешь…
– …ничего не значит…
– Но он будет с другой! – барышня заливалась слезами, коробочка квакала лягушкой.
– …одну ночь… ничего, переживешь…
– …снадобье… сразу понесет…
– …а будешь замужем…
– Но я не хочу, чтобы меня касался другой! Я этого не вынесу! – под совиное уханье барышня заломила руки.
– …и не надо… сварю такое… лишит мужской силы…
Ого, да тут целый заговор!
– Правда? Так можно? – опухшее от слез личико просветлело, но сейчас же опять сморщилось. – Она родит ему сына, и он полюбит ее…
– Не родит! – старуха повысила голос. – А если родит, то девочку, уж я позабочусь. Нашла о чем печалиться.
– Я отдала ему все, – пискнула барышня, шмыгая носом. – Он обещал любить меня вечно…
Зловредная коробочка закричала болотной выпью. Так громко и жутко, что я невольно подпрыгнула и заскользила на карнизе, цепляясь за что придется. Сквозь стекло долетел старухин ответ:
– Он и будет любить тебя вечно, не будь я лучшая в Кайлане ворожея и травница!
– Цыц, вы обе! – гаркнул мужской голос.
Я прильнула к щелке.
Свяна, защити!..
Льет, грозный, как палач, шел к окну с ножом в руке и смотрел, казалось, прямо на меня. Неужели услышал, как я тут барахтаюсь и скрежещу когтями? Или глаз в щелке заметил?
Все, не гляжу! Нет меня. Вам почудилось, благородный кавалер.
Шаги приблизились и замерли.
– Кошка! – прогремело над головой.
Верно, благородный кавалер. Просто бродячая кошка, которая жмется к человеческому жилью. Вы же не станете вскрывать тройную раму, чтобы подпортить шкурку безобидному животному?
И как он умудрился разглядеть черную кошку в черной ночи сквозь толстый слой изморози…
Мгновение томительной тишины, и шаги стали удаляться.
Я отважилась снова заглянуть в комнату.
Льет стоял спиной. А старуха…