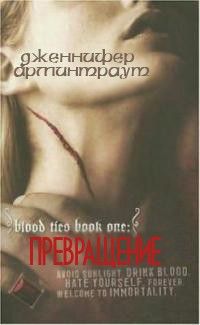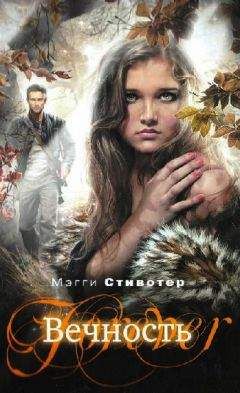— Ты музыкант? — спросила я.
Коул посмотрел на меня исподлобья; что-то в моем вопросе насторожило его, однако он не собирался выкладывать мне всю свою подноготную.
— Угу, — коротко отозвался он.
— Какого плана?
На лице у него возникло такое выражение, какое всегда бывает у настоящих музыкантов, когда их спрашивают, на чем они играют.
— Так, всего помаленьку, — сказал он небрежно. — Клавишник, пожалуй.
— У нас дома есть пианино, — сообщила я.
Коул взглянул на свои руки.
— Вообще-то я бросил это дело.
Он снова умолк, и это молчание, тяжелое, расползающееся, отравленное, повисло над столом между нами.
Я состроила гримаску, но он ее не увидел, поскольку не удосужился поднять на меня глаза. Пустой треп — не самая сильная моя сторона. Я подумывала позвонить Грейс и спросить у нее, о чем можно поговорить с неразговорчивым оборотнем с суицидальными наклонностями, но где-то оставила телефон. В машине, наверное.
— Что ты там разглядываешь? — осведомилась я в конце концов, не ожидая получить ответ.
К моему удивлению, Коул вытянул руку, растопырил пальцы и уставился на них со смесью изумления и отвращения. Голос у него был соответствующий.
— Сегодня утром, когда я снова превратился в себя, передо мной лежала мертвая олениха. Вернее, не совсем мертвая. Она смотрела на меня… — вот теперь он взглянул мне прямо в глаза, чтобы увидеть мою реакцию, — но не могла встать, потому что перед тем, как превратиться обратно в человека, я разодрал ей бок. И похоже… ну, в общем, похоже, я ел ее заживо. И похоже, после того, как уже превратился обратно, тоже, потому что мои руки… они были в ее кишках.
Он перевел взгляд на свой большой палец, и я заметила, что под ногтем темнеет узкая бурая полоска. Палец у него дрожал, совсем немного, я еле заметила.
— Она не смывается, — сказал он.
Я положила руку на стол, ладонью вверх, но он не понял, чего я от него хочу, и тогда я протянула руку еще дальше и обхватила его пальцы своими. Другой рукой я вытащила из сумочки маникюрные щипчики и острым концом извлекла бурый комочек из-под ногтя.
Я сдула его со стола, убрала щипчики обратно в сумку и отпустила его руку.
Он оставил ее лежать на столе между нами, ладонью вниз, растопырив пальцы и прижав к столешнице, как будто она была животным, готовым обратиться в бегство.
— Я считаю, что ты не виновата в смерти брата, — сказал Коул.
Я закатила глаза.
— Ну спасибо, Грейс.
— Кто?!
— Грейс. Подружка Сэма. Она тоже так говорит. Только ее там не было. И вообще, парень, которого она пыталась спасти таким образом, выжил. Она может позволить себе быть великодушной. Зачем мы вообще затеяли этот разговор?
— Затем, что ты заставила меня пройти три мили пешком ради чашки приличного кофе. Расскажи, почему именно менингит?
— Потому что менингит дает высокую температуру. — Его непроницаемый вид сказал мне, что я начала не с того конца. — Грейс укусили в детстве. Но она так и не стала оборотнем, потому что ее придурочный папаша забыл ее на жаре в запертой машине, так что она едва не поджарилась. Мы решили, что, возможно, удастся воспроизвести этот эффект при помощи высокой температуры, и не смогли придумать для этого ничего более подходящего, чем менингит.
— После которого выживает тридцать пять процентов, — сказал Коул.
— От десяти до тридцати, — поправила я. — И потом, я же сказала — Сэм ведь исцелился. А Джек умер.
— Джек — это твой брат?
— Да. Был.
— И это ты сделала ему укол?
— Нет, укол делала Грейс. Но зараженную кровь раздобыла я.
— Ну, тогда я вообще не понимаю, при чем тут ты.
Я вскинула бровь.
— Я не…
— Чш-ш! — оборвал он меня и, обхватив свою кружку, уставился на солонку с перечницей. — Я думаю. Значит, Сэм теперь вообще не превращается?
— Вообще. От лихорадки волк в нем спекся, ну или что-то в этом роде.
Коул покачал головой, не глядя на меня.
— Что-то тут не сходится. Это не должно было сработать. По этой логике, если от холода дрожишь, а от жары потеешь, то, чтобы до конца жизни перестать дрожать, нужно на пару минут забраться в доменную печь.
— Ну, не знаю. Все считали, что Сэм доживает в человеческом обличье последний год, так что сейчас он уже должен был быть волком. Лихорадка подействовала.
Он нахмурился.
— Я не стал бы утверждать, что это была лихорадка. Я сказал бы, что это как-то связано с менингитом. А то, что Грейс так и не стала оборотнем, как-то связано с тем, что ее забыли тогда в машине. Это, вероятно, так. Но утверждать, что причиной всему лихорадка? Это недоказуемо.
— Слушаю тебя внимательно, мистер Большой Ученый.
— Мой отец…
— Одержимый ученый, — вставила я.
— Да, одержимый ученый. Так вот, на своих лекциях он любил рассказывать один анекдот, про лягушку. По-моему, это была лягушка, но, может, это был кузнечик. Пусть будет лягушка. У одного ученого была лягушка. Он ей и говорит: «Лягушка, прыгай». Лягушка прыгает на десять футов. Ученый записывает: «Лягушка прыгает на десять футов». Потом он отрубает лягушке одну лапку и говорит: «Лягушка, прыгай». Лягушка прыгает на пять футов. Ученый записывает: «Лягушка без одной лапки прыгает на пять футов». Потом он отрубает лягушке вторую лапку и говорит: «Лягушка, прыгай». Лягушка прыгает на два фута, и ученый записывает: «Лягушка без двух лапок прыгает на два фута». Потом он отрубает лягушке еще две лапы и приказывает: «Лягушка, прыгай». Лягушка остается лежать на месте. Тогда ученый записывает вывод: «Если лягушке отрубить все лапы, она оглохнет». — Коул взглянул на меня. — Понимаешь?
— Я же не полная идиотка, — возмутилась я. — Ты считаешь, что мы пришли к неверному выводу. Но все получилось! Какая разница?
— Для Сэма, думаю, никакой, если у него и так все получилось, — отозвался Коул. — Просто я считаю, что Бек был не прав. Он сказал мне, что от холода мы превращаемся в волков, а от жары — в людей. Но если бы это было так, новые волки вроде меня не были бы нестабильны. Нельзя задать правила, а потом сказать, что они не работают, потому что твое тело пока еще незнакомо с ними. В науке так не бывает.
Я немного поразмыслила.
— Значит, ты считаешь, что это пример лягушачьей логики?
— Не знаю, — отозвался Коул. — Я как раз думал об этом, когда ты пришла. Пытался проверить, нельзя ли спровоцировать превращение каким-нибудь другим способом помимо холода.
— Адреналином. И глупостью.
— Верно. Именно так я и думаю, но могу и ошибаться. Я считаю, что на самом деле превращение вызывает не сам холод, а то, каким образом мозг на него реагирует. Это совершенно разные вещи. В первом случае это настоящая температура, а во втором — та температура, какой ее воспринимает наш мозг. — Пальцы Коула потянулись к салфетке, но замерли на полпути. — Мне обычно лучше думается, когда есть бумага.