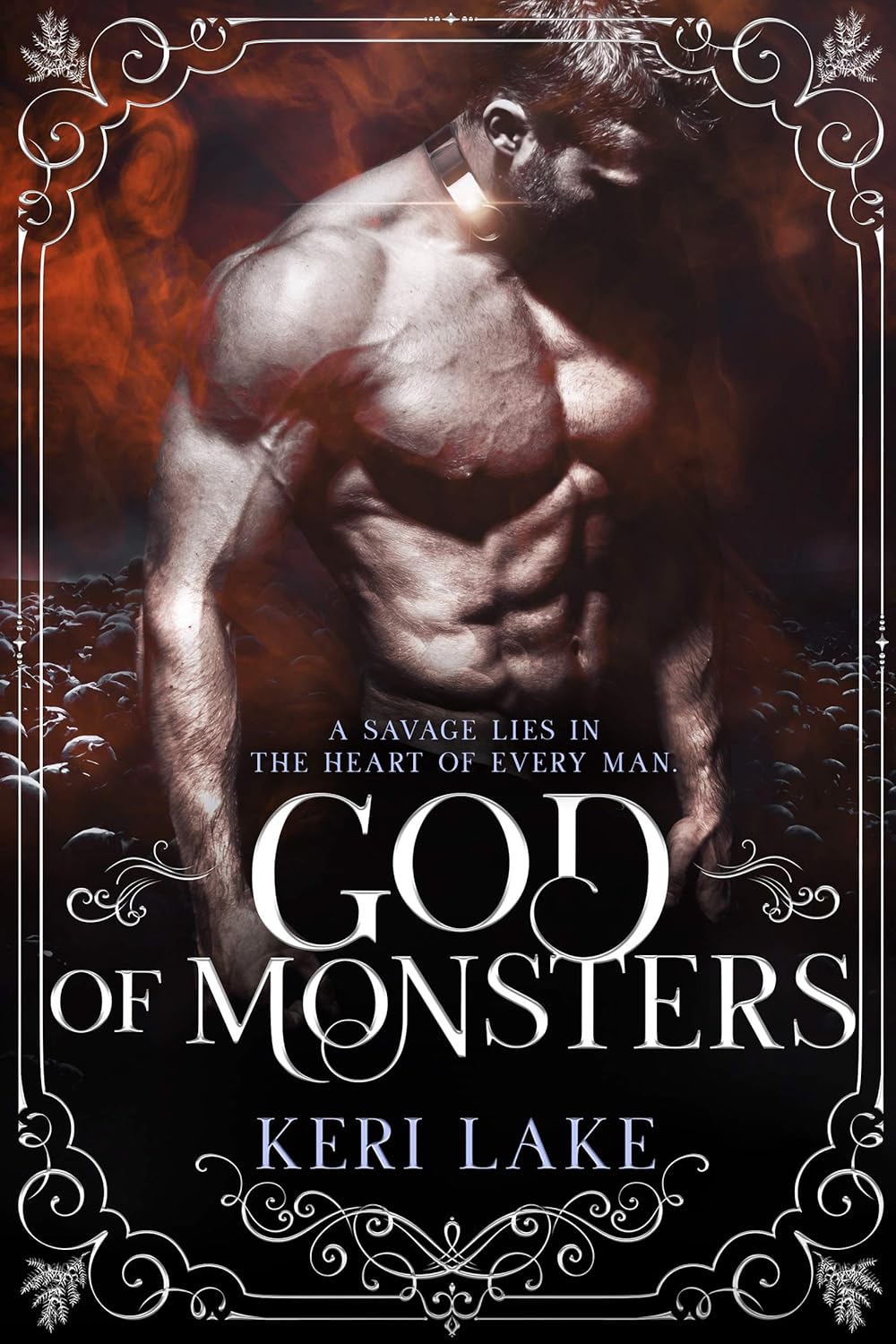от страсти и экстаза, о которых я читала в книгах.
Чувство вины за это заставляет меня захлопнуть обложку, и ужасная мысль проносится сквозь меня: тот первый опыт всегда будет преследовать меня. Что каждый предстоящий сексуальный контакт будет омрачен моим первым, безвременной смертью моего лучшего друга. И ребенком. Боже, что, если внутри меня действительно ребенок? То, что мне всегда говорили, — это невозможное, внезапно ставшее возможным. Я прижимаю руку к своему животу, пытаясь представить его раздутым жизнью. Я пытаюсь представить себе здешнюю жизнь, убегающую от Рейтеров и прячущуюся от мародеров с плачущим ребенком на руках. Я бы никогда не выжила по эту сторону стены, и поэтому у любого моего новорожденного тоже нет шансов.
Я должна вернуться в Шолен. Обратно в безопасное место, где этот ребенок, если он вообще есть, не подвергается риску каждую минуту своей жизни. Хотя бы ради моего друга, у которого никогда не будет возможности встретить жизнь, которую он вполне мог бы создать. Я должна выжить ради этого ребенка.
Я вспоминаю слова Уилла, когда он сказал мне, что больше не хочет жить. Как эти угрюмые мысли поразили меня такой печалью и разочарованием. Как он мог так охотно сдаться?
Интересно, увидел ли Титус облегчение в его глазах, когда схватил его. Интересно, увидел ли он что-то, чего не увидела я. Возможно, убийство Уилла было невысказанным одолжением между ними.
Услышав щелчок двери, я поднимаю глаза и вижу Титуса, выходящего из ванной в одном полотенце, слишком маленьком, чтобы полностью обернуть его нижнюю половину, из-под которого торчит одно целое бедро.
Там, где его лицо когда-то покрывали растрепанные неухоженные волосы, теперь гладко и чисто выбрито, обнажая острые углы подбородка. Поразительно, насколько моложе и неожиданно красивым он выглядит. Как совершенно другой человек. При виде него у меня странно щекочет в груди.
— Могу я попросить твоей помощи кое в чем? Он не из тех, кто привык просить о помощи, учитывая то, что сейчас он даже не может посмотреть на меня.
— Конечно.
По кивку его головы я откладываю книгу в сторону и следую за ним в ванную. На раковине он разложил бритвенные принадлежности, которые, должно быть, стащил из шкафчиков, и ножницы, которые он протягивает мне.
— Ты раньше стригла?
— Да. Моего брата. За эти годы я неплохо научилась этому, даже сама подстригаю себе волосы, когда это необходимо.
— Делай то, что должна. Я предпочитаю обнажать кожу. Хотя, с его чисто выбритым лицом, ему хорошо идут более длинные волосы.
Он опускается на колени до пола передо мной, и все еще находится на уровне шеи. Двое таких, как я, могли бы поместиться в размахе его широких плеч, а каждая из его рук размером примерно с мои бедра. Прочищая горло, он, кажется, осознает, что, немного опустив взгляд, он смотрит на мою грудь, и, как будто он не знает, куда смотреть, он отводит взгляд в сторону, прежде чем остановиться где-то на моей ключице.
Я просовываю пальцы в отверстия для ножниц и беру расческу с раковины, моя грудь касается его плеча, когда я дотягиваюсь. Он вздрагивает и снова откашливается. Мысль о том, что этому огромному, отвратительному мужчине, похоже, совершенно не по себе от моих прикосновений, вызывает улыбку на моем лице.
Снова стоя перед ним, я собираю прядь длинных волос и принимаюсь за работу, подравнивая и подстригая, позволяя прядям волос падать на пол вокруг него. Он остается неподвижным, как статуя, в непоколебимой позе солдата, которого похвалил бы мой отец, никогда не двигаясь и не говоря ни слова, пока я кружу вокруг него. К тому времени, как я заканчиваю, его волосы короткие, чуть длиннее, чем короткая стрижка, и к тому же длиннее на макушке. Достаточно, чтобы провести по ним пальцами, ни за что не зацепившись.
Там, в Шолене, если бы он был офицером легиона, тамошние женщины, вероятно, падали бы к его ногам, такие же красивые и подтянутые, как он, когда его приводят в порядок. Они бы заискивали перед его золотистыми глазами и большими мускулами, как кошки во время течки.
Несмотря на то, что я все еще испытываю к нему столько обиды, я не могу не заметить этого сама. С жаром на щеках я отвожу взгляд и собираю упавшие пряди волос.
Когда он встает, чтобы смахнуть со своей кожи волосы, меня снова приветствует небольшая полоска полотенца, прикрывающая его выпуклый пах.
Пытаясь отвлечь свое внимание, я шаркающей походкой выхожу из ванной, чтобы взять метлу, которой ранее подметала пол на кухне, и когда я возвращаюсь, он тянется за ней.
— Спасибо тебе, — говорит он, забирая метлу из моих рук, случайно касаясь моей руки.
— Конечно. Теперь это я прочищаю горло от дискомфорта, пока он убирает последние волосы, а я возвращаюсь в гостиную, в очередной раз меняя книги на Гордость и предубеждение.
Титус выбрасывает волосы в камин и исчезает за углом. Когда он появляется снова, у него в руках одеяло, которое он бросает перед камином поверх медвежьего ковра.
— Ты можешь занять кровать.
— Ты бы предпочитаешь пол?
— Да.
— Если ты не возражаешь, я просто останусь немного почитать?
— Меня это не беспокоит.
Из принесенной ранее поленницы дров Титус хватает одну из длинных веток и нож, которым пользовался последние пару дней, и плюхается перед огнем, все еще одетый в это чертово полотенце.
К счастью, он отводит свою деловую часть в сторону, пока вырезает из кончика ветки то, что, судя по всему, будет оружием или мясным вертелом, а я сажусь на свое место, все еще прижимая книгу к первой странице.
Я принимаюсь за чтение, просматриваю первую страницу перепалки мистера Беннета и его жены по поводу одинокого, богатого, недавно прибывшего холостяка по соседству, и обнаруживаю, что мой взгляд блуждает по верхним страницам, отвлекаясь на мужчину, сидящего на полу у камина. Даже расслабленный, Титус выглядит как зверь, с его стальными бицепсами, которые едва сгибаются, когда он сидит, вырезая по дереву.
Остановись, мысленно ругаю я себя и возвращаюсь к чтению. Другая страница, о пяти дочерях Беннета, превращается в изображение стройного, идеально изогнутого пресса Титуса, над которым он склоняется, молча изучая свою работу. Мои пальцы практически покалывает от желания потрогать каждый гребень, и я роняю книгу на колени.
— Черт возьми! Проклятие доносится до меня шепотом, и когда Титус поворачивается, мои щеки заливает краска смущения, когда я поднимаю книгу. Любопытство, написанное на его лице, исчезает за смятыми страницами, когда я пытаюсь спрятаться.
— Прости… это дурацкая книга.
— О чем она?
— О упрямой женщине.
Фыркая от смеха, он опирается локтем на колено.
— И ты находишь это глупым? Похоже, тебе подходит.
— А ты был бы задумчивым, вспыльчивым запугивателем.
Нахмурившись, как бы в подтверждение моей точки зрения, он