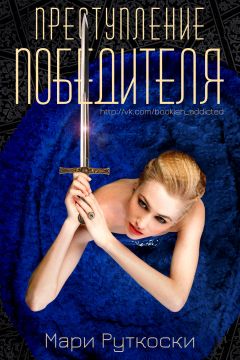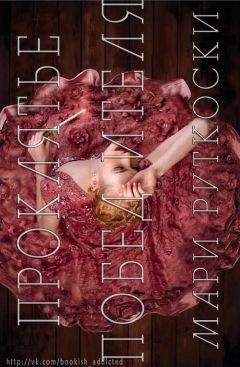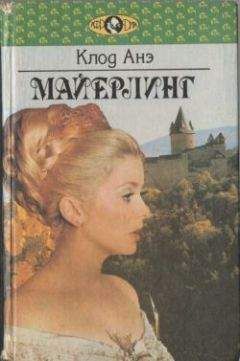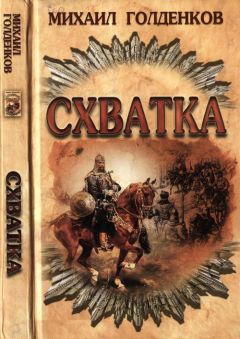Арин тоже это видел.
Вдоль берега канала брела женщина. На ней были узкие брюки жителей равнин. В руках она несла голубой сверток — это был цвет, в который одевались дакранские дети. Женщина нежно прижимала сверток к себе, будто младенца. Однако у того не было лица. Не было рук. Ничего, кроме свернутой тряпки.
Арин прекратил грести. Вода кружилась вокруг его неподвижного весла.
Иногда Арин почти мог понять поступок Кестрел. Даже сейчас, ощущая, как лодка медленно плывет по течению, он вспомнил отчаяние, появлявшееся на лице девушки, когда он упоминал ее отца. Тоску. Арину хотелось встряхнуть ее, прогнать это выражение, особенно в первые месяцы после того, как она купила его. Он хотел заставить ее увидеть генерала таким, каким он был на самом деле. Заставить ее признать, кем была она сама, признать неправоту, понять, что она не должна так жаждать любви отца. Его любовь была пропитана кровью. Неужели Кестрел этого не видела? Как она могла? Когда-то Арин ненавидел ее за это.
А затем ее тоска тронула его. Он познал это чувство сам: он тоже желал того, чего ему желать не следовало. Он тоже ощутил, как сердце само выбирает себе приют и не слушает голос разума. Не здесь, пытался возразить он. Не со мной. Не я. Никогда. Однако им завладела та же болезнь.
Когда он мысленно возвращался к этой ситуации, роль Кестрел во взятии восточных равнин была предсказуемой. Иногда Арин проклинал ее за то, как она добивалась расположения императора, или винил за превращение войны в игру просто потому, что она могла. Однако ему казалось, что он знает причины ее действий. Она делала все это ради отца.
Все почти сходилось. По крайней мере, когда Арин был близок ко сну, его разум утихомиривался, и становилось сложнее следить за тем, какие мысли в нем появлялись. Перед тем как заснуть, он подходил вплотную к пониманию.
Однако сейчас он бодрствовал. Он смотрел на женщину с затуманенным взглядом, прижимавшую к груди тряпичного младенца. Арин видел, как она нежно гладит голубые складки. Понимания просто не могло быть.
Арин жалел, что Кестрел не видит этой картины. Он хотел заставить ее заплатить за то, что она совершила.
Глава 33
Мир отворил двери весне. Тугие бутоны распустились и выпустили на свет разноцветные лепестки.
Кестрел почти не покидала дворца, но от этого не было пользы. Ход мыслей тоже зависел от поры года, и она не могла остановить те, что вырвались сейчас наружу из задворок ее сознания. О чем же она думала? Что таилось в ее душе, окруженное чувством вины? Что она держала в руках и поднимала к свету, чтобы получше рассмотреть, и что бросала, как можно скорее, будто обожглась?
Такие мысли разрастались, как цветы с огненными лепестками. Они сжигали траву вокруг себя. Горели сами от корня до кончика стебля. Кестрел избегала их.
Чаще всего. Но иногда она сама шла им навстречу. И лгала по пути самой себе.
Кестрел думала о своем рояле, который остался в Геране. О нем можно было вспоминать: вполне естественно, что она скучала по инструменту, на котором играла с детства, который когда-то принадлежал ее матери. Рояль во дворце издавал богатый, звенящий звук, и, возможно, был качественнее сделан, но Кестрел не могла не тосковать по тому, на котором играла почти всю свою жизнь. Она почти чувствовала под пальцами его прохладные клавиши.
Ее рояль остался в доме Арина. Она хорошо знала тот дом. Он был ее тюрьмой. Он почти стал ей... домом.
Однако затем Кестрел подумала, что это не так. Она вовсе не так хорошо знала дом Арина. Она была убеждена, что это правда, и поняла: солгала себе лишь для того, чтобы самой себя исправить. Ведь часть дома Арина она так никогда и не видела.
Вот где была загвоздка. Пылающий цветок.
Кестрел никогда не была в покоях Арина. Да, она обнаружила его детские комнаты. Однажды встретила его там. Но в то время он уже спал в другой части дома. Там же проводил часы уединения, принимал ванну, читал, одевался, смотрел в окно. Вид из того окна Кестрел так никогда и не открылся.
Арин жил с противоположной стороны расположенного на крыше двойного сада, который соединял его покои с ее. Он дал Кестрел ключ от той двери в стене, разделявшей их. Кестрел мысленно взяла ключ в руку. Вставила в замок. Отворила дверь.
Она представляла себе, что обнаружит там. Возможно, пол коридора, ведущего из сада в комнаты Арина, был выложен плиткой, которая блестела в темноте, будто чешуя волшебного существа. В воображении Кестрел стояла глубокая ночь. Тьма казалась физически осязаемой.
В отличие от Кестрел, Арин не стал бы зажигать лампы во всех комнатах, особенно в тех, которые не использовал в данный момент. Нет, он бы зажег всего одну, и то неярко, как человек, привыкший беречь то немногое, что у него есть. Поэтому Кестрел пошла бы на свет. Там, где она нашла бы его источник, она нашла бы и Арина.
Иногда она находила его в спальне.
Иногда ей не хватало сил, чтобы думать об этом. Ее сердце вздрагивало. Мужество покидало ее. Поэтому она предпочитала находить его в других местах: в гостиной, где он сидел в кресле или на корточках у камина, подкладывающим в пламя дрова.
После того как она находила его, всегда происходило одно и то же. В ее мыслях у него в руках всегда было что-то, что он откладывал, когда видел ее: полено, книга.
Он был удивлен: не думал, что она придет.
Выпрямлялся. Вставал. Подходил ближе.
Той ночью в городе Арин выиграл правду. Выиграл честно. Сейчас он получит то, что Кестрел ему задолжала. Он потребует, чтобы она объяснила ему причину. И она все расскажет. Правда лежала на кончике ее языка, и не только там. Кестрел чувствовала правду в горле, корень правды держался глубоко внутри девушки. Наверное, так чувствовали себя певцы перед тем, как запеть, когда тело готовилось и настраивалось на мелодию.
Она могла спросить Арина. Уж ему-то наверняка это чувство знакомо. Но она боялась заговорить.
А Арин слушал. Он ждал ответов.
Момент настал. Это всегда происходило в один и тот же момент. Кестрел поднимала голову, и правда лилась из нее песней.
* * *
Она больше не могла выносить молчание Джесс. Слишком много писем осталось без ответа. Слишком много раз Кестрел уходила, наткнувшись на закрытую дверь Джесс. Ей не хотелось вынуждать подругу к встрече... но, в конце концов, больше ничего ей не оставалось. Он отправила свою карточку с императорской печатью. На плотной бумаге были обозначены день и час визита Кестрел в дом Джесс.
И Джесс ждала ее.
Кестрел провели в салон. Джесс сидела на вышитом диване у камина. Пламя горело ярко, несмотря на то, что день был теплым. Кестрел неловко замерла, теребя ленту своего кошелька. Джесс, казалось, еще больше исхудала, ее волосы утратили свой блеск. Она не встречалась взглядом с Кестрел: ее глаза смотрели выше, на метку помолвки на лбу у гостьи.