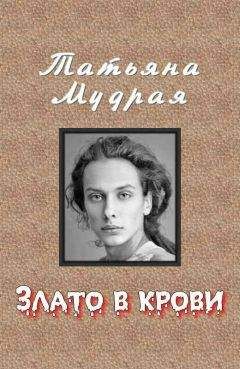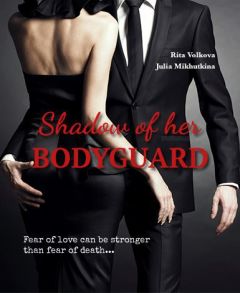— Может быть, не надо испытывать на прочность мое знание местного эсперанто — оно вот-вот скончается от напряжения, — взмолился я. Но отлично понял: мне предлагали защиту. Возможно, сотрудничество. Вряд ли прямую выгоду.
Потом мы расстались. И более всех чудес Динана меня удивили те слова, что Селина сказала на прощание:
— Представьте себе, Римус, это ведь я вас использовала в своих корыстных целях. Вы были моим ночным стражем. Бодигардом, как нынче говорят. В жизни у меня не было никого лучше: всевидящий, всеслышащий, практически неуязвимый — и на свой лад безопасный.
— Безопасный… Это вы про меня?
— Я разве не говорила? Смерть — не самое худшее, что может приключиться с жизнью в ее течение и продолжение. По нашим религиозным понятиям, она не наносит ущерба ничему из того, что истинно. А если перейти на личности — хм. Когда-то, лет двадцать назад, я была персоной. С самых тех пор ко мне приставляют людей. Ну и нет у меня к ним, нонешним, доверия: если бы я сама их нанимала, они были бы верны хотя бы деньгам или своему профессиональному реноме. Бы, если и кабы. Их ведь непонятно для чего присылают: то ли отшить, то ли пришить.
Я, в свою очередь, снова предложил ей Кровь — как плату или отплату.
— Это запрещается…(«Какой дефицит, однако!» — хихикнули ее мысли.) Я же сам и запрещал. Но кто меня заставит соблюдать правило? Да, я понял, это в ваших глазах — дар из ящика Пандоры (не той, что моя любимая, в душе воскликнул я сам), но ведь мир течет и изменяется, и мы меняемся вместе с ним.
— Спасибо, — ответила она вполне серьезно. — Никогда не говори «никогда», уж этому меня крепко обучили. Кто знает, куда нас обоих заведет Великая Игра мироздания?
На прощание я показал ей (точнее, внушил), как она может связаться со мной ментально. Некий пеленг, по которому я смогу идти, как по лучу.
Но не ожидал, что меня вообще позовут — и тем более так скоро.
…Зов. И в нем горький запах давно предвидимой беды.
Я услышал его сквозь сон, и сон этот породил чудовищ. Виделся мне тот лэнский донжон в виде тюрьмы, старуха вместо красавицы и ее пленение. Пламя, который спускается вниз по хрусталю. Я в ужасе выдираю из окна решетку — и камни обрушиваются, выплескивая огонь прямо мне в лицо…
В результате я проснулся задолго до заката, и когда я вышел из укрытия, темное солнце обожгло мне лицо и руки. Однажды, ради того, чтобы приласкать моего смертного любовника, я нагрел пальцы над свечой: это показалось мне больнее. Но я торопливо закутался в антикварную «плащ-палатку» времен Второй Мировой — изделие из почти бессмертного брезента, с капюшоном и удобными длинными щелями для кистей рук — и поднялся ввысь, ориентируясь по невидимой линии, прорезанной в воздухе.
Это был не Динан: туда бы я не попал так скоро, и большая вода повергает меня в род холодной паники. Скорее, одна из классных европейских клиник, Швеция, может быть. Внутри уже погасили лампы, остались только ночники дежурных сестер, мигание огоньков на пульте, на седьмом этаже — небольшая настольная лампа, резная, как китайский многослойный шарик. В слабо освещенной спальне — две кровати: для пациента, для сиделки (будущей, с облегчением подумал я, покрывало не смято) и кресло под широким вигоневым пледом. Это я увидел, уже вцепившись в раму ногтями.
— Римус? Римус!
Тихий голос, почти неслышимая мысль. Теперь я ее видел: она приподнялась, откинув с себя шерстяную ткань и поплотнее запахнув на себе пышный, невесомый халат из какой-то синтетики. В самом главном — такая же, как я ее помнил. Болезнь не успела еще сильно изъесть ее плоть и совсем не тронула души, но лицо слегка осунулось, резче выступили кости запястий, глаза, такие яркие, впали, и сквозь прежний тополиный аромат я безошибочно угадал зловоние той самой болезни.
— Так скоро. На крыльях, что ли, прилетел? Идите, я внизу задвижку подпилила.
— Задвижка для меня не проблема, — сказал я самым легким тоном. — Так вы меня приглашаете?
— О, неужели эта древняя традиция еще жива в вашем народе? Ну конечно, приглашаю, — если не во имя закона, то хотя бы ради вежливости.
Я аккуратно высадил окно — там еще и неких хитроумных по замыслу петель не оказалось, так что я едва не выпал внутрь самой палаты вместе с рамой, — и проник внутрь.
— Доставайте себе табуретку там, под моим ложем. Ничего, что я не слишком обходительна? И ведите себя потише, за дверью мои то ли охранники, то ли конвойщики, сама не понимаю.
— Тогда я вас с собой заберу.
— Верно мыслите. Погодите, я письмо написала в ожидании, на всякий случай. Прочтите, мне спокойнее будет, что я не выдала никаких вампирских секретов. Там, собственно, ничего личного. Нате!
«Врач возлюбленный и друг мой Хорт, — с трудом разбирал я написанное в так называемом низком эдинском наречии. — В предвиденьи того, что меня ожидает после операции, химиотерапии и, возможно, даже сразу во время анестезионного сеанса — я ухожу. Как далеко и надолго, не могу предвидеть. Скорей навсегда, чем куда-то. Тупо сигануть с подоконника — не мой стиль, хотя и в отсутствии суицидальных наклонностей меня не упрекнешь. При любом раскладе исполнять мои служебные обязанности в вашем — хотя и по-прежнему милом моему сердцу — ведомстве я не смогу. Не буду иметь на это никакого формального права. Но именной перстень со щитом себе оставлю: он всё равно свое отыграл, а мне память. К тому же вы все из-под земли меня достанете, буде я откажусь от чести состоять в ваших рядах, верно?»
— Нет подписи и числа.
— А зачем?
Я устроил бумагу на видном месте и придавил какой-то больничной склянкой, чтобы не упала. Окутал Селину плащом и вынес на вольный воздух.
В пути я прикрывал ее голову рукой, а лицо прижал к своей груди — мне было страшнее, чем ей, пожалуй. Вверху было студёно, ветер приносил запахи снега из низких облаков, ее теплые руки обвились вокруг моей талии.
— Ф-фу, дышать нечем, а у меня астма.
— Открыть вас немного?
— Нет, здорово будет в качестве дополнительного бонуса еще и чахотку получить. Долго нам еще до вашего вампирского логова?
— Не очень. Вы же знаете, мы плохо видим, куда надо попасть.
— Уж постарайтесь. За то время, пока вы соприкасались с новой и новейшей историей, можно было всю спутниковую картографию изучить.
Но тут подо мной оказались огоньки моего нынешнего пристанища — северного мегаполиса, где в мае и июне день плавно перетекает в ночь, так и не превращаясь в непроглядную темень. Тут, на Каменном Острове, у меня был дом, милый моему сердцу: редкий в этих местах особняк с небольшим газоном и старыми дубами перед своими шестью колоннами (четыре из них — сдвоенные, тогда получается все десять), с простым фронтоном, одним парадным входом и тремя потайными, пробитыми в так называемых «крыльях», простершихся по обе стороны фасада.