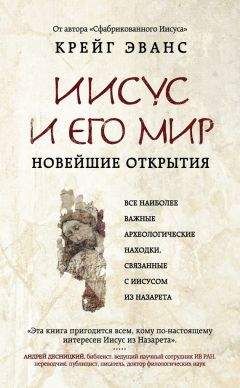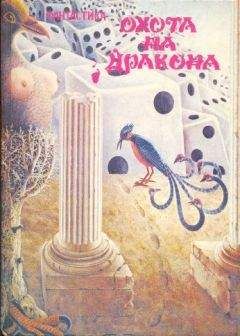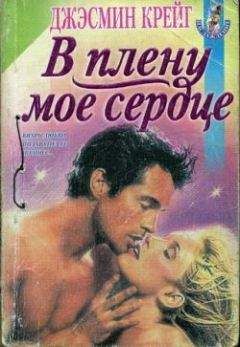Злорадное торжество.
Лекари наконец и быстро сошлись во мнении, что дальнейшее пребывание леди в четырех стенах чревато тем, что ее глубокое потрясение превратится в бесконтрольную ярость и приведет к разрушению всего вокруг. Или, что еще хуже, к попытке причинить вред себе.
Под честное слово ей дали добро выходить на улицу — хорошо утепленной и еще лучше охраняемой от любых спонтанных порывов. Уже четыре дня как.
Леди поежилась.
— Вы замерзли, ваша светлость? — тут же всполошился Рейберт.
Идель не стала отвечать. Замерзла ли она? Да, очень сильно. И очень-очень-очень давно. Двенадцать проклятых лет назад покрылась инеем.
Идель прикрыла глаза, ощущая, с какой болью опускаются свинцовые веки. Она отлично помнила, как осталась в безграничном, как тогда казалось, чертоге рода Греймхау в одиночестве. У нее, конечно, была мачеха — слегка озлобленная женщина, которая не оценила того, что муж бросил ее и отбыл на войну несколькими годами ранее. Она всячески пестовала Аббатство Непорочных и старалась с малых лет приобщить к нему падчерицу. И она изменяла Теданису с управляющим, совсем не желая признавать двенадцатилетнюю Идель молодой правительницей в отсутствии отца.
Да она и не признавала.
Никто в ту пору не признавал. Идель восседала в кресле герцогини как маленькая выряженная кукла, и на всякую попытку открыть рот тут же получала по рукам. Не буквально, конечно, но пресловутое «дитя-герцогиня», которым ее пичкали со всех углов с каждым днем все сильнее застревало костью в горле.
Тогда она и нашла это место — подъем на куртину со стороны герцогского сада. Здесь можно было укрыться от посторонних и вдосталь попроклинать жизнь.
Из всей доставшейся ей опоры были только гвардейцы — охрана, приставленная отцом для безопасности, возглавляемая Рейбертом и Ульдредом. Ульдред был старше. Более грузный, более свирепый с виду, он был обязан Идель жизнью. Однако из-за вмешательства, которое эту жизнь спасло, последние месяцы его пребывания в армии перед отъездом в Греймхау стали для воина невыносимы. Он рвался между тем, что долг красен платежом, и тем, что ему месяцами кричали в спину, что казни с честью он предпочел спрятаться под юбкой ребенка.
Ульдред не сразу расположил леди к себе. Но зато был первым, кто сказал Идель подождать и затаиться, присмотреться, выждать хороший момент — и только потом действовать.
Идель не хотела ждать — она хотела понимать, что происходит вокруг. В конце концов, от этого всерьез зависело ее существование!
Она отказывалась подписывать то, что другие хотели, чтобы она подписывала, потому что уже тогда понимала: регентша Фридесвайд тоже подписывала всякие глупости, и из-за этого им, лордам Греймхау, пришлось воевать! Из-за этого погиб ее брат! Она не будет причастна ни к чему такому! Никогда!
Чтобы сладить с Идель, мачеха написала отцу. Тот поступил откровенно по-дурацки: прислал какого-то увальня, который должен был стать наставником и опекуном-регентом при молодой герцогине. Примерно через год — Идель уже стукнуло четырнадцать, — ублюдок решил, что неплохо бы на будущее застолбить место подле эрцгерцогини самым тривиальным способом.
И самым тривиальным способом он сдох.
Тогда она впервые доверилась Рейберту. Пришла к нему среди ночи, перепуганная, с глазами на пол-лица и в крови — от горла до колен. И молча за руку потащила в свою спальню. Указала рукой на постель, где лежал неудачливый обидчик. Рейберт помог ей избавиться от тела, не только не задав лишних вопросов, но даже посоветовав дать делу огласку. Если этого не сделать, сказал он тогда, правда рано или поздно всплывет, и это убийство восставят молоденькой Идель как один из аргументов ее неспособности править.
Женщина почувствовала на языке привкус желчи — мрачного торжества справедливости, что тогда, что сейчас, когда она предалась воспоминаниям.
В тот раз Теоданис тоже не отозвался так, как Идель надеялась — он не вернулся в Греймхау, все еще снедаемый болью потери единственного наследника и все еще не примирившийся с обретением наследницы. Идель спросила у Рейберта, есть ли, по его мнению, у Греймхау такие союзники, с которыми она могла бы поговорить и попросить совета, раз уж никакой иной помощи ей не получить. Рейберт, не раздумывая долго, назвал имя лорда-председателя Тайного совета.
Лорд Дайрсгау был почтителен, несмотря на ее юный возраст. Он слушал ее сбивчивое признание и сумбурную речь о том, что происходит, с терпением того самого Создателя, которого без конца восхвалял бородавочный Фардоза.
Эйвар говорил с ней всерьез. Разъяснял многие вещи, как неопытной, но говорил и обходился, как со взрослой. Лорд Дайрсгау задал так много уточняющих вопросов и дал так много советов, что поначалу Идель казалось, она забудет их все, едва дойдет до отведенной ей комнаты, чтобы отдохнуть.
Она вправду забыла — вспомнила уже потом, в карете, по дороге домой, когда мысли наконец, улеглись. Однако один совет вбился ей в память сразу и навсегда. Будто вытесанный в стелле, он засел так прочно, так глубоко, что отпечатался на самой ее душе:
«Стал наковальней — терпи. Стал молотом — бей».
Идель добиралась домой экипажем, и долго, тщательно обдумывала каждое слово, сказанное Эйваром при встрече. Когда, наконец, во дворе чертога Греймхау она сошла со ступенек подставки, услужливо придвинутой к дверце кареты (впервые тогда по-герцогски подав руку, чтобы Рейберт ей помог), она поклялась себе сделать все, чтобы стать из наковальни молотом.
И как только местный управляющий приветствовал ее привычным «Дитя-герцогиня», Идель красноречиво обернулась через свободное плечо. Кивнула с хладнокровным достоинством, которое подсмотрела у Эйвара, стоявшему наготове Ульдреду. Движением головы указала цель.
Ульдред кивнул в ответ. Пока он подходил, юная леди отпустила руку Рейберта и протянула длань к управляющему, вроде как желая, чтобы теперь он сопровождал ее. Мужчина хмыкнул, переглянулся с ее мачехой, и подал эрцгерцогине руку.
Та взялась. Вцепилась и потянула в сторону. Ульдред точным, некрасующимся движением достал меч и без разговоров отсек управляющему конечность ниже локтя.
— В темницу. — Даже ее голос стал другим.
Молот, ударяя по наковальне, не стрекочет цикадой, не щебечет и не поет соловьем. Он ударяет один раз, точно и беспощадно, и лишь немного и иногда от отдачи постукивает повторно. Ничего, так даже лучше. Этот отстук будет эхом ее решений, ее силы, ее ярости, если потребуется. Эхом, которое пугает в темной пещере или стылой темнице, отражаясь от стен, десятикратно сильнее, чем то, что его издает.
У нее есть имя. И у нее есть власть, превосходящая любого другого герцога так же, как любой герцог превосходит всю прочую знать. Потому что она, Идель из Греймахау, как напомнил ей Дайрсгау, была первой наследницей Аерона в те дни. Должна была быть второй, после отца, но вверяя Теоданису все войска, какими он тогда располагал, молодой император заставил Тео письменно отречься от претензий на трон в пользу дочери, чтобы не сосредотачивать в руках герцога слишком много власти одновременно.
Во дворе чертога взвился гвалт. Мачеха даже посмела рвануться сначала к стенающему управляющему, а потом и к ней, Идель. Схватила за плечо и дернула, как сопливую девчонку.
Ее. Наследницу деорсийской короны.
Идель проглотила вспышку негодования, не давая себе повысить голос. Герцоги не кричат. Престолонаследники — тем более.
— И ее тоже, — приказала леди. — В отдельную.
За что? — спрашивали многие, но больше шепотом. И только мачеха, когда ее уволакивали, сыпала в падчерицу проклятьями и требовала ответа:
— Я жена герцога! Я герцогиня! А ты…
Конечно, этого следовало ожидать. Мало, кто воспринял ее приказ с большим воодушевлением — разве что те, кто и прежде был с ней. Даже вон, некоторые стражники похватались за мечи, оголив на ладонь или больше. Ульдред быстро рыкнул на них: в своем они уме? На кого собираются нападать? На дочь герцога Теоданиса и будущую правительницу? На сестру императора?